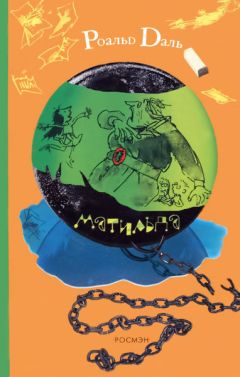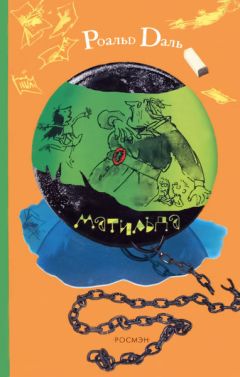Владимир Околотин - Вольта
Конечно, все прозрели, «дочерние» республики, устроенные Бонапартом — Гольветическая, Цизальпинская, Лигурийская, — хоть кого отрезвят. О какой науке тут речь? Но Вольта затыкал уши, чтобы не слушать опасных речей: чем, мол, французы хуже австрийцев, за одного убитого они вырезают целый город. Да и зачем рисковать, ничто не вечно под луной, тем более эта пена.
За спиной шепчутся, что в Бонапарте и Вольте родственная кровь, они ж иберийцы. Вот корсиканец: малый рост, черные волнистые волосы, кости тяжелые, решителен, нетерпелив. А Вольта разве не таков? Повыше, пообразованнее, но такой же кипяток. Вот почему Вольта столь решительно присягнул Бонапарту, а Гальвани, слыхали, отказался!
Но и поплатился за то — кафедру отняли, по Лючии своей по-прежнему горюет, хоть шесть лет прошло. Уже после ее смерти нашел силы завершить свой трактат о животном электричестве, а сейчас сдал, бедняга.
А сам Вольта с затянувшимся бегством немного лукавил. Он паниковал и упирался с возвратом в университет не только потому, что попал с контрибуцией, как муха в пиццу, просто у него удачно шли опыты с касанием металлов, хотелось урвать денек-другой-третий. Еще летом прошлого года он доказал, что эффект дают не только металлы, у Валли, например, и вовсе одни неметаллы. На эту тему уже есть публикации на немецком, французском, итальянском, теперь еще рукопись к Грену. В августе туда ушло и второе письмо про то же, но с электрометром, конденсатором, дупликатором Никольсона. Experimentum crisic, опыт решающий: серебро и латунь, между ними мясо или просто мокрый картон, и диски заряжаются!
В сентябре обрадовал граф Виани из Ниццы: он-то уверен, что в гальванических опытах проявляется именно электрический флюид! Вольта с оказией переправил восторженный ответ (он стал статьей): никаким экивокам, сомнениям и двусмысленностям места нет! Измеритель сделал Беннет, Кавалло кавалерийским наскоком его улучшил, Никольсон элегантно довел до ума, и этому прибору безразлично, откуда взялось электричество, трением или касанием, прибор сработал, значит, оно есть!
Потом Марум, хоть и педант, порадовался вместе с Вольтой. Из-за этой непроходящей гибельной войны связь сделалась ненадежной, приходилось вести переписку через французские комиссариаты в Милане и Женеве, оплачивать ливрами и надписывать пакеты именами Бонапарта или комиссаров Салицетти и Гарриса, чтоб солдатня не распотрошила по дороге.
Эх, советовал Вольта Маруму, вам бы такую машину, чтоб все гудело и трещало, как при грозе, приборы чтоб дрожали при малейшем намеке на электричество. С измерителями он бы помог, ибо в них он разбирался хорошо, а машинами давно не занимался. Еще древние понимали, что verba volant, scripta manent («сказанное улетает, написанное остается»), а потому Вольта еще раз добавил: животное электричество оказалось металлическим!
А французы тащат все, приписал Вольта, ибо у них нет страха перед генералами. И ждите меня в длительное турне на вакациях, если война не помешает. Марум, сидевший в Брюсселе, порадовал Вольту китовыми усиками для гигрометра — как не помочь друг другу узникам соседних камер, то есть стран.
И снова писал Виано. Он отсасывал электричество из воздуха, заряжал им банки, предлагал измерять время электрометром, настолько четко менялись его показания в течение суток. Читать такие слова было сплошным удовольствием, и друзья у Виано влиятельные — чего стоит комендант Карло Д'Осаско, офранцуженный испанец, Виано вспоминал умершего Ван-Свитена, лейб-медика покойной Марии-Терезии, тот мечтал обмерять больного приборами, хотя б электроскопами или электрическими весами. Давно уже замечено влияние температуры тела на состояние больного, теперь самое время вступать в игру электрикам!
В 97-м году Монж начал славить искусство Вольты. Живший в Париже Маскерони всем там рассказывал, что приборы павийца могут даже фиксировать момент перед срывом искры! Вольта писал к Бертолле, намечалась поездка в Политехническую школу, заказов на статьи было так много, что не успевал все их удовлетворять.
Тогда же в Берлине вышла книга Гумбольдта, через два года последовал второй том. Вольта огорчился: немец не знал про многие опыты, и на четырехстах страницах уверял читателя, что электричество родится живыми тканями и химическими процессами. Вот уж истинно — зрят умом, а не глазом. Только химия, только кислород и водород — два дня Вольта читал многословный труд, а осилил лишь четверть. Том устарел, еще не появившись, напрасно природовед-путешественник взялся за физику, авторитет автора лишь навредил истине.
Зато порадовал венский житель, некий Каррадори. «Вы излечили меня от тоски, — благодарил далекий незнакомец, — метаморфоза вызвана тем, как чудесно вы пишете об электричестве, все великолепно и чарует».
Но, как и прежде, внешний мир властно стучался в окна Вольты. В марте 97-го года Вольта с горечью жаловался жене: «Дорогая супруга! Вчера ректор Разори и профессор Носетти призвали студентов устроить поход в честь новой власти и пойти в Брешию и Верону с патриотическими лозунгами, славя французскую революцию. С трех факультетов набралось три сотни желающих, и остальным уже не до занятий. Корпус в 3–4 тысячи, с охраной и разбившись на отряды, пройдет до Кассано, а потом вернется в Брешию. Вот уж лучший способ прославить университет! И этот развал учебного процесса должны поддерживать профессора, разве за это им платят? Уж давно стало известно еще об одном разгроме австрийских войск, французы уже вступили в немецкий Тироль, в мае войдут в Каринтию. Если так пойдет дальше, мир наступит не скоро, и прусского короля не оставят в покое».
28 декабря молодого генерала Дюпо из свиты посла Жозефа Бонапарта зарезали в Риме в двух шагах от самого посла. А в ответ через сорок дней папская столица занята французами, святой отец лишен светской власти. Правда, Римская республика не продержалась и года: воспользовавшись уходом главных сил французов, падких на всяческие авантюры, австрийцы (у них все же три армии!) и итальянцы из Неаполитанского королевства (которое скоро превратится в республику Партенопею) на время вернули город к старому образу жизни.
Что принесли французы?Казалось, что наступили три конца: австрийцам, может быть, науке и христианскому счислению веков. Всего не перечесть, устоявшийся уклад сменился мельтешением, а Вольта из зрителя волей-неволей превратился в участника спектакля по имени Жизнь.
Вместе со сменой власти немецкий язык уступил французскому, и, как его знаток, Вольта шел в гору. Исчезла австрийская педантичность, но новая администрация тоже тяготела к патернализму, изуродованному избытком слов и формализма.