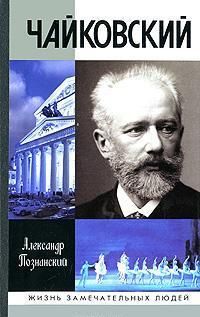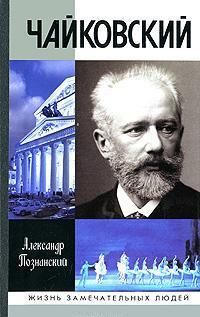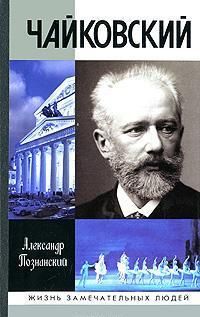Александр Познанский - Чайковский
Нам же представляется, что их отношения были гораздо сложнее, чем это дает понять Модест Ильич, «…мало знал я людей, которые с таким упорством, с таким постоянством были “влюблены” в жизнь, которые бы умели ловко скользить мимо тяжелых сторон бытия и упрямо во всем, везде видеть одно радостное и приятное, — пишет он о Кондратьеве. — С утра до ночи, с детства до старости, всюду, в деревне, в столичной суете, в чужих странах, в уездном городишке, даже на смертном одре… он умел находить возможность любоваться жизнью, верить в незыблемость отрадных сторон ее и смотреть на зло, горе, муки — как на нечто преходящее, непременно долженствующее исчезнуть и уступить место чему-то вечно радостному и приятному».
Цель Модеста Ильича ясна: на протяжении всего своего сочинения он подчеркивает жизнеутверждающий аспект личности Чайковского. В этой схеме и дружба с Кондратьевым освещается с известной предвзятостью: биографу важно доказать, что брату главным образом импонировала именно эта сторона его личности: «…для такого неисправимого оптимиста, как Петр Ильич, для такой чуткой отзывчивости к страданиям ближнего, какая была у него, — иметь перед глазами постоянное подтверждение того, что жизнь прекрасна, чувствовать себя в обществе счастливых, довольных, по возможности, быть причиной их довольства и счастья — составляло потребность для покоя и полного равновесия, при которых он только и мог сам быть счастлив и доволен».
Из писем и дневников складывается, однако, другая картина. Она ставит под сомнение психологическую мотивировку, заявленную Модестом, по крайней мере, в смысле ее исчерпанности, первостепенности и акцентов. Характеризуя свои отношения с Кондратьевым в спокойную минуту, Чайковский пишет Модесту 12 марта 1875 года: «…хоть я его и люблю, но уж, конечно, в десять раз меньше, чем тебя и Анатолия, а с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что и он любит меня по-своему, т. е. настолько, насколько я не нарушаю его благосостояния, которое для него превыше всего на свете». В этом же направлении следует скорректировать и утверждение дочери Кондратьева — Надежды Николаевны: «А для отца не было на свете человека более любимого и лучшего друга, чем Петр Ильич». Оборотной стороной жизнерадостности Кондратьева были припадки ипохондрии, вызванные пустяками: «…он, как избалованный ребенок, боялся всякой царапины, плакал, жаловался на них, ненавидел всеми силами души, иногда отчаивался», и это не могло не нервировать Петра Ильича, тем более что капризность сочеталась с непостоянством. «Кондратьев, — пишет композитор Модесту 28 февраля 1880 года из Парижа, — жаловался на тоску, объявил, что каж[дый] день плачет в три ручья, но из дальнейших вопросов оказалось, что живет припеваючи, имеет кучу знакомых, ежедневно бывает в театре и, словом, по-видимому, нимало не скучает».
Вообще, из текстов самого Чайковского вырисовываются достаточно бурные отношения между ними. По всей видимости, Кондратьев был избалованным и эгоистическим самодуром, очень нелегким в общежитии, особенно для деликатной натуры композитора. Даже в переписке с фон Мекк, где Петр Ильич проявлял особую осторожность в суждениях о третьих лицах, он делится недовольством по поводу реакции Кондратьева на свою разворачивавшуюся и тяжело переживаемую матримониальную драму: «У меня есть один друг, некто Кондратьев, человек очень милый, приятный в обращении, но страдающий одним недостатком — эгоизмом. <…> Он человек очень состоятельный, совершенно свободный и готовый, по его словам, на всякие жертвы для друга. Я был убежден, что он явится ко мне на помощь. <…> В письме этом (полученном уже после бегства Чайковского за границу. — А. П.) мой друг очень жалеет меня и в конце пишет: “Молись, друг мой, молись. Бог поможет тебе выйти из этого положения!” Дешево и сердито отделался». И далее следует нелестное для Кондратьева сравнение с гротескным персонажем романа Теккерея (письмо от 5 декабря 1877 года). Любопытно, что фон Мекк не забыла эту жалобу и через два года припомнила, назвав поведение Кондратьева «по меньшей мере бабоватым» (письмо от 24 июня 1879 года), с чем Чайковский согласился. В феврале 1881 года он пишет Модесту из Рима о Кондратьеве: «…мне приятно, и даже для меня сущее благодеяние было найти здесь Ник[олая] Дмитриевича] и милейшего Сашу» (Легошина, слугу Кондратьева. — А. П.), после чего, впрочем, следует характерная оговорка: «…но боюсь, как бы не наступило то быстрое охлаждение, которое всегда у нас с ним случается из-за пустяка; а уж потом вернуться к искреннему тону бывает трудно». Или в дневнике после отъезда семьи Кондратьевых из Майданова, где они занимали дачу по соседству с Чайковским: «Чувствую пустоту и что-то печальное по случаю отсутствия Николая] Дм[итриевича]» (запись от 23 июля 1886 года); «испытываю если не тоску, то очень живое чувство недоставания Кондратьевых» (25 июля 1886 года). В том же дневнике, несколько ранее: «Что за загадка этот человек. И добр, и в то же время злить есть для него наслаждение» (11 июля 1886 года). Это, пожалуй, самая четкая формулировка противоречивых чувств, которые Чайковский должен был к нему испытывать.
И, однако, окончательное суждение, во время предсмертной болезни друга, категорически выносится в его пользу. «Боже мой, как у меня сердце болит за Кондратьева. По страху и ужасу, который я испытываю при мысли, что он умрет, я вижу, что скверный исход его болезни произведет на меня ужасное действие. Судьба так сложилась, что Николай] Дмитриевич] для нас с тобой больше чем приятель и как бы самый близкий родной», — пишет он Модесту 10 апреля 1887 года. Не содержится ли в этой последней, довольно странной фразе намек на существенное обстоятельство, которое определило во многих отношениях их дружбу и о котором умолчал осторожный биограф, — а именно сходство сексуальных пристрастий всех троих — помещика, композитора и его брата?
В начале 1870-х годов Чайковский часто проводил время в имении Кондратьева — Низы. По словам дочери Кондратьева, у отца были «воспитанники», о которых теперь ничего не известно, кроме одного — некоего Алексея Киселева, который фигурирует в письмах и дневниках Петра Ильича. Ненормальное положение вещей в кондратьевском имении композитор описал в письме Анатолию 3 сентября 1871 года: «…лакашки его до того распущены, что держат себя настоящими господами и третируют своих господ и их гостей как своих слуг. Происходящие от того беспорядки, недосмотры, неприятности ежедневно возмущали меня до глубины души». Очевидный намек на близкие отношения Кондратьева со слугой содержит и письмо Чайковского конца 1872 года: «Кондратьев провел в Москве 11/2 недели и уехал за границу, похитив незабвенного Алешу Киселева». 3 марта 1876 года композитор сообщает Модесту: «Николай Дмитриевич с нетерпением ожидает от тебя письма. Он теперь покоен, так как его мерзавец Алешка уехал в деревню».