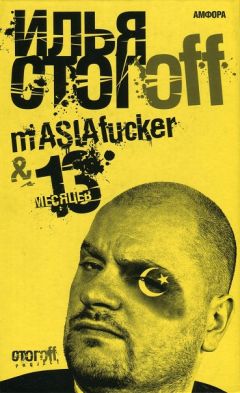Алла Андреева - Плаванье к Небесной России
Совсем бояться лошадей я перестала много-много позже. В 1989 году я попала в Монголию. Там чудесный человек, пригласивший меня и мою крестницу, отвез нас на праздник «Десяти тысяч коней». И этого я никогда не забуду, потому что коней там, наверное, действительно было десять тысяч. И я видела, как эти табуны скакали по монгольским холмам, подобно широкой темной реке, стекающей с горы. Видела я, и как ловят необъезженного коня. Табун лошадей сначала гоняли взад-вперед внутри круга, по краям которого стояло очень много народа, в том числе и мы. А ловили совершенно золотого жеребца. Он был точь-в-точь как тот, что под Ильей Муромцем на картине Васнецова, — с золотой длинной гривой и длинным хвостом. Это было совершенно удивительное зрелище. Потом каждый победитель во всех видах состязаний — пожилой монгол, средних лет женщина и мальчик — пел песню, посвященную своему коню, на котором выиграл победу. Там в лагере я и подумать не могла, что когда-нибудь увижу такое, Монголию увижу.
Но это я забежала вперед, потому что пока еще все-таки 54-й, 55-й годы. Люди уже идут на волю, но мы все еще ставим спектакли, даем концерты и пока конца не видно. Увезли неизвестно куда и зачем мою Джоньку со сломанной рукой — попала на фабрике в машину. И наша кошка плакала о ней настоящими слезами.
А я уже давно пишу, пишу и пишу бесконечные жалобы, требования о пересмотре дела. Пишу обо всех, не о своем деле и не о пересмотре дела Даниила Андреева, а о пересмотре дел всех, арестованных по нашему делу. Я без конца писала. Получив отказ, я в тот же день садилась и писала снова. Опять отказ, и опять писала. Не могу сейчас вспомнить точно, но, кажется, в 53-м году приехали на первое свидание ко мне мама с папой, увидали меня живую, веселую, ни перед чем не согнувшуюся. Как это описать? Конечно, во время этого свидания мы сидели и разговаривали, вцепившись друг в друга. Я не помню, сколько оно длилось, было коротким, наверное. В тот же день они уехали. Ни единой слезы ни у меня, ни у них. Мы сидим, я весело им обо всем рассказываю и, конечно, настаиваю, что надо требовать пересмотра дела.
Интересно, что последний отказ мы получили уже после XX съезда партии, на котором вроде бы разделались со сталинскими делами. Это неправда. И нас с Даниилом еще раз осудили — его на 25 лет тюрьмы, меня — на 25 лет лагеря — уже после XX съезда.
Очень интересно повели себя в то время вольные. Когда стало ясно, что лагеря кончаются и людей отпускают на волю, реакция вольных на это была очень разная. Одна из надзирательниц с искренним сожалением говорила: «Ай-яй-яй, как плохо. А я только что сестру сюда вызвала, чтоб она поработала. Ну, хоть бы приоделась немножечко. У нее же ничего нет». Реакция других тоже была очень выразительной. Уезжавшие конвоиры брали с собой куда-то сторожевых собак. Они переколотили окна в будке, где жили собаки, и написали на стенке «Этому больше не бывать!» Это были простые солдаты, взятые сюда на службу.
Вот еще картинка. В бухгалтерии у нас работали пожилые женщины, в основном те самые несгибаемые коммунистки. Начальником над ними был «бухгалтер Севка», вольный, очень молодой. Естественно, работали женщины, а он приходил на работу спокойный, ни над кем не издевался, но и никому не помогал. И вот однажды утром влетает белобрысый Севка в бухгалтерию и вопит:
— Снимайте! Снимайте эту дрянь! С вас номера снимают! Вам ваши платья отдают.
И тут стало ясно: мы уже спокойно относились к привычным номерам, а некоторые из вольных серьезно это переживали, и Севка только тогда себя выдал, когда вышло постановление о снятии номеров.
Одной из начальниц КВЧ была у нас Тамара Ковалева. Эта милая красивая молодая женщина закончила в Саранске педагогический институт, и ее распределили в какую-то дальнюю мордовскую деревню. Она пришла в такой ужас от этой деревни, что предложение стать начальницей КВЧ приняла с радостью. Начиталась Макаренко и думала, сколько добра принесет, перевоспитывая бедных заключенных женщин, возвращая их к полноценной советской жизни. В лагере она очень скоро все поняла. У нас с ней сложились хорошие отношения, мы потом даже переписывались. Помню такую сцену. Лагерная ночь, темно, мы сидим в мастерской, наверное, готовимся к очередному концерту. Тамара поехала в Центр на какое-то совещание, до которого нам дела нет. Вдруг совсем уже к ночи влетает сияющая Тамара и кричит:
— Девочки, ссылки больше нету! В Сибирь больше не поедете! Все, кто освободится, поедут домой!
Она могла остаться ночевать в Центре, могла переночевать в своей комнате за зоной, а все рассказать нам утром. Но не вытерпела — специально прибежала.
Все эти люди обязаны были скрывать свои человеческие чувства, а они были у многих, многие все видели и понимали. Они были как будто в каком-то параллельном нашему положении. Мы были заключенными, а они — нет, но каким-то чудовищным и трагическим образом их жизни сцеплялись с нашими.
А вот совсем другая история. С какого-то времени при шмонах стали отбирать стеклянные банки. Нас это страшно возмущало. В банках присылали то варенье, то консервы какие-нибудь. И они нам были очень нужны в хозяйстве. У женщины ведь все можно отобрать, но немыслимо отнять желание иметь хозяйство. Банки эти скапливались на вахте, куда нас не пускали, а потом исчезали. А надо сказать, что это совпало с появлением в лагере оперуполномоченного по фамилии Родионов.
Страшный был человек, причем трудно объяснить, чем именно. Ну, естественно, были придирки, строгости, карцеры, но я не могу припомнить никаких из ряда вон выходящих его зверств. Тем не менее, когда Родионов появлялся во время поверки, две тысячи женщин леденели от страха. Было в этом человеке что-то, наводящее ужас.
Однажды дверь библиотеки, где я тогда работала, загорелась. Ватная обшивка сгорела, но ни дверь, ни библиотека не пострадали. Было ясно: ее подожгла, причем под утро, пожарница по распоряжению Родионова.
Родионов меня вызвал:
— Вообще-то дело твое плохо, конечно. Десять дней карцера, лишение посылок, самая тяжелая работа. Но есть выход: будешь давать сведения.
Я ответила:
— Нет. Работа — значит, работа. Карцер — значит, карцер. Не буду.
— Ладно, — сказал Родионов. — Пиши под диктовку: «Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем я никому не имею права рассказывать».
Я начинаю писать: «Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем…» и вдруг останавливаюсь. Как будто рука Ангела дотронулась до моего плеча. Я вспомнила, сколько всего подписывала на следствии и что я тогда наделала. Ведь и эта бумага пойдет в мое «дело». И я приписала: «… И О МОЕМ ОТКАЗЕ я никому не имею права рассказывать».