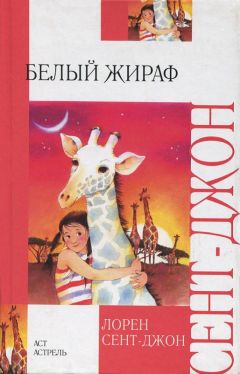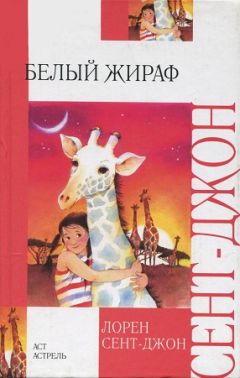Алексей Брусилов - Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой войне
Я хорошо понимал, что царь тут ни при чем, так как в военном деле его можно считать младенцем, и что весь вопрос состоит в том, что Алексеев, хотя отлично понимает, каково положение дел и преступность действий Эверта и Куропаткина, но, как бывший их подчиненный во время японской войны, всемерно старается прикрыть их бездействие и скрепя сердце соглашается с их представлениями.
Генерал А. Ф. Рагоза
Впоследствии командующий 4-й армией генерал Рагоза, бывший моим подчиненным в мирное и военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу, а потому как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготовлявшаяся, совершенно для них неожиданно отменена. Поэтому поводу он ездил объясняться с Эвертом. Тот ему сказал сначала, что такова воля государя императора; на это Рагоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся по неизвестной ему причине маневр и что просит разрешения подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки; он просил Эверта представить эту докладную записку Верховному главнокомандующему. Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рагозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки, но когда Рагоза эту записку написал и сам вручил ее Эверту, то командующий заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя, и тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходила от него лично и что он сам испросил разрешения в Ставке перенести удар на другое место.
Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рагозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем несообразный поступок Эверта. Рагоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта, и ему кажется, что Эверт боялся, как бы в случае неуспеха он как военачальник не скомпрометировал себя, и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения. Впоследствии до меня дошли сплетни, будто Эверт однажды сказал: «С какой стати я буду работать во славу Брусилова». Я, конечно, этому не верю, но привожу это как доказательство того, чего он, собственно, добился своими действиями в общественном мнении, о котором, по словам Рагозы, так заботился. Русской же армии он повредил бесповоротно. Как бы то ни было, я остался один. Чтобы покончить с вопросом о помощи, оказанной Западным фронтом, скажу лишь, что действительно в последних числах июня, по настоянию Алексеева, атака на Барановичи состоялась, но, как это нетрудно было предвидеть, войска понесли громадные потери при полной неудаче, и на этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению.
Будь другой Верховный главнокомандующий — за подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен, Куропаткин же ни в каком случае в действующей армии никакой должности не получил бы. Но при том режиме, который существовал в то время, в армии безнаказанность была полная, и оба продолжали оставаться излюбленными военачальниками Ставки.
Все это время я получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Всё всколыхнулось. Крестьяне, рабочие, аристократия, духовенство, интеллигенция, учащаяся молодежь — все бесконечной телеграфной лентой хотели мне сказать, что они — русские люди и что сердца их бьются заодно с моей дорогой, окровавленной во имя родины, но победоносной армией. И это было мне поддержкой и великим утешением. Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией. Насколько я помню, если не первой, то одной из первых была телеграмма с Кавказа от великого князя Николая Николаевича: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Прочитав эту телеграмму, я был сильно взволнован, настолько она меня тронула. Он, наш бывший Верховный главнокомандующий, не находил слов, чтобы достаточно сильно выразить свою радость по поводу наших побед. Я объясняю себе свое волнение тем, что нервы мои были слишком измучены предыдущими переживаниями в столкновениях с людьми совсем иного склада. И только несколько дней спустя мне подали телеграмму от государя, в которой стояло всего несколько сухих и сдержанных слов благодарности.
Такие впечатления не изглаживаются, и я их унесу с собой в могилу.
Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое боевое шествие вперед, и к 10 июня нами было уже взято пленными 4013 офицеров и около 200 000 солдат; военной добычи было: 219 орудий, 644 пулемета, 196 бомбометов и минометов, 46 зарядных ящиков, 38 прожекторов, около 150 000 винтовок, много вагонов и бесчисленное количество разного другого военного материала. 11 июня в состав Юго-Западного фронта была передана 3-я армия генерала Леша, и я поставил задачей 3-й и 8-й армиям — разбить противостоящего противника и овладеть районом Городок — Маневичи; двум левофланговым армиям, 7-й и 9-й, — продолжать наступление на Галич и Станиславов и, наконец, центральной, 11-й армии, — удерживать занимаемое положение. С 11 по 21 июня войска Леша и Каледина, во исполнение данной им задачи производили необходимые перегруппировки своих сил. В это же время 8-й армии Каледина пришлось отбивать многократные контратаки вновь подвезенных с других фронтов многочисленных германских полчищ, стремившихся прорвать фронт 8-й армии и отбросить ее к Луцку.
Собственно продвижение Каледина к Владимиру-Волынскому мною одобрено не было; произошло оно и не по его указанию, а вследствие горячности войск при преследовании разбитого противника; мною же ему многократно доказывалось, и сам я два раза к нему ездил для того чтобы заставить его, держась к западу оборонительно, обратить все свое внимание и все свои силы для захвата Ковеля. Но странный был характер у Каледина: невзирая на полную успешность действий, он все время плакался, что находится в критическом положении и ожидает ежедневно, по совершенно неизвестным причинам, как армии, так и себе погибели; управление войсками было у него нерешительное, колеблющееся. В свою очередь, войска видели его мало, а когда видели, то замечали лишь угрюмого, молчаливого генерала, с ними не говорившего и их не благодарившего; его не любили и ему не доверяли.