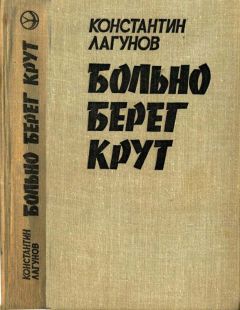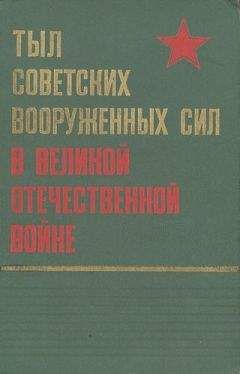Константин Лагунов - Так было
— Вот этим как раз я и хотел заняться, — вставил Шамов. Федотова умолкла, а он торопливо продолжал: — Пора, давно пора детально во всем разобраться. Вы совершенно правы. Но нужно время, а я месяцами не вылезаю из командировок. Вот опять еду в «Новую жизнь». Думаю, можно меня от этой поездки освободить и дать возможность всерьез заняться наболевшими вопросами народного образования в районе.
— Почему же вы не высказали свою просьбу на бюро?
— Я полагал, вы как секретарь можете самостоятельно решить этот вопрос.
— Ничего вы не полагали, — с необычной резкостью и прямотой сказала Федотова. — Вы достаточно умны и… и хитры, чтобы в такой момент во всеуслышание заявить об этом. Советую вам впредь никогда не искать окольных путей к цели. Идите прямо. Так, правда, трудней, зато короче и, главное, честней.
Ничего подобного от этой женщины Богдан Данилович не ожидал. Промолчать он не мог, это значило бы признать ее правоту и превосходство. Обострять и углублять конфликт ему тоже не хотелось. Надо было отступить, не теряя достоинства и не оставляя следов. Но как? Богдан Данилович долго усердно продувал и выколачивал мундштук. Федотова, понимающе улыбнувшись, отвернулась от Шамова. Загнула уголок книжной страницы, захлопнула книгу и сунула ее в полевую сумку. Одернула гимнастерку. Не глядя на Шамова, сказала негромко, вроде бы сама для себя:
— Если все время думать только о себе, может создаться мнение, что ты и есть земная ось. Все вокруг тебя и все для тебя. А ты для кого? Так незаметно можно оказаться лишним человеком. Никому не нужным. Это, по-моему, самая страшная трагедия в жизни.
— В мой огород камушек? — встопорщился Шамов.
— Ваш забор таким камушком не прошибешь.
— А вам очень хочется прошибить?
— Хочется. И не прошибить, а повалить его. Чтобы всем стало видно то, что за тем забором скрывается.
— Боюсь, что вас ожидает двойное разочарование. Во-первых, вам не поднять такой камушек, который мог бы сделать это. А во-вторых, ничего порочного для коммуниста за той оградой не окажется.
— Вот это вызывает у меня сомнение. Доброе не прячут от людей, потому что без них оно перестает быть добрым. Только зло и порок любят мрак и крепостные стены…
Шамов сумел даже любезно улыбнуться, сказав при этом:
— Спасибо за откровенность. Это очень редкое качество, и оно, безусловно, украшает любого партийного работника…
— Полина Михайловна! — донесся из коридора голос Рыбакова.
— Иду! — откликнулась Федотова.
Она торопливо сняла с вешалки стеганку, взяла в руки полевую сумку и, кивнув Шамову, вышла.
Едва закрылась за Федотовой дверь кабинета, как Шамов преобразился. Глаза застыли в гневном прищуре. Он вытянул шею, прислушиваясь к шагам из коридора. Они шли в ногу. Громко хлопнула входная дверь. Богдан Данилович выругался шепотом и потянулся к телефону. Услышав в трубке низкий женский голос, сердито сказал:
— Анна! Сейчас заеду. Перекушу и в колхоз. Приготовь.
Анна — тридцатилетняя домработница Шамова. Баба здоровая, как вол. Все так и кипит в ее могучих руках. К тому же и безотказна. Богдан Данилович был очень доволен своей работницей.
«А Федотова неглупа, — думал он по дороге домой. — Но ярая сторонница Рыбакова. Тем лучше. Упадет он — повалится и она. Одним махом двоих побивахом. Ничего, голубчики, будет вам и белка, будет и свисток».
Домой он вошел повеселевший. Пока Анна, звонко шлепая по крашеному полу босыми ножищами, накрывала на стол, Богдан Данилович вынул из ящика заветную тетрадку. Подумал, пожевал губы и сделал очередную запись.
«28 сентября 1943 года. Рыбаков заводит гарем. В открытую, не стесняясь. Сегодня повез Федотову в колхоз «Коммунизм», сказав всем, что едет в Рачево».
Он захлопнул тетрадь. Поднял ее над головой и пропел высоким голосом:
— Еще одно, последнее сказанье. И летопись окончена моя!..
4.Те, кому посвятил свою запись Шамов, сейчас тряслись в маленьком плетеном ходке. Принахмурив густые, непроглядной черноты брови, Василий Иванович смотрел куда-то вдаль и молчал. Полина Михайловна тоже молчала. На душе у нее было нехорошо от разговора с Шамовым. Скользкий человек. Никогда не поймешь, что у него на уме. Говорит одно, думает другое, а делает третье. Такой способен на все…
Федотова покосилась на Рыбакова. Строгий смуглый профиль с насупленными бровями и плотно сжатыми тонкими губами. Ей захотелось сделать приятное товарищу, сказать что-нибудь такое, от чего лицо его мгновенно бы посветлело и озарилось улыбкой.
Полина Михайловна дотронулась до его руки, спросила сочувственно:
— О чем задумались?
Он ответил не сразу. Посмотрел на нее в упор пристально и долго. Отвел глаза в сторону, вздохнул. Заговорил медленно и негромко:
— О разном… — Зажав коленями вожжи, достал кисет, свернул папиросу, закурил. Глубоко затянулся. — О разном. Погода вроде добреет, но ненадолго. Хватит ли сил за несколько дней повалить и заскирдовать весь хлеб. А если не хватит? Люди чертовски устали. Иной раз поглядишь на них — в чем душа держится. А работают! Просто чудеса творят. И не ради сытой жизни, а ради будущего, ради победы. Это надо понимать… — Он снова затянулся папиросой. Голос его вдруг обмяк, потеплел. — Будь я художником, я бы такую картину нарисовал: серое небо над сжатым полем, а на нем стоит женщина, простая русская баба. Босая, усталая. Но гордая и сильная. Она протягивает полные пригоршни зерна. А рядом с ней мальчонка лет тринадцати. В закатанных штанах, в заплатанной рубахе. Голодными жадными глазами глядит он на зерно, которое капает из пригоршней женщины, как слезы. Назвал бы я эту картину «Хлеб». Тут, конечно, большое мастерство нужно. Надо так нарисовать, чтобы картина брала человека за самое сердце, чтоб душу ему опаляла. Нельзя, чтобы люди забыли, кому обязана жизнью наша земля!
— А солдаты? Они ведь за эту землю умирали.
— Солдаты. Эти же бабы и народили и выпестовали солдат! Были им матерями и сестрами, невестами и женами. Проводили их на войну. Дали оружие и хлеб. И прежде всего им — русским женщинам обязаны мы своими победами!
Он умолк, задумался. Только лицо его было теперь спокойным. И брови разошлись, и морщины разгладились. Лошадь притомилась. Бежала тише. Круп Воронка блестел от пота.
— А знаете, мне иногда думается, после войны люди станут жить по-другому. Они будут добрее и мягче. Война опалила людские сердца, и они стали чище, чутче, тоньше. Человек понял цену дружбы, ласки, сочувствия. Научился быть нетерпимым к подлости.
— А я не уверен в этом, — задумчиво заговорил Василий Иванович. — Война не одинаково влияет на всех. Иных она ожесточит, других развратит. Нет, после войны нам предстоит жестокая борьба за душу человека.