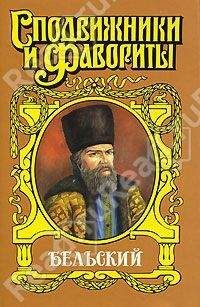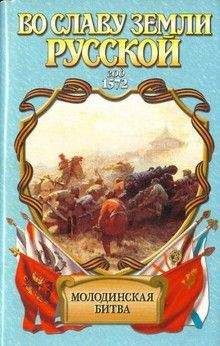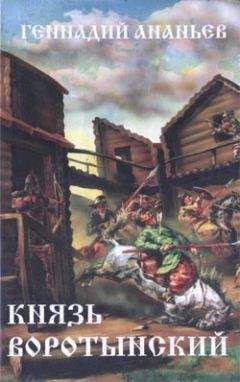Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Слушая Калису Петровну, я не замечал ни малограмотного построения фразы, ни колченогой, с грехом пополам, рифмы.
Даже рассказы Куприна не дали мне так остро почувствовать цирковую атмосферу, как пение Калисы Петровны, ее вари-панинского тембра контральто. Когда она пела «Акробата», у меня двоилось в глазах: я видел вульгарноватое, хотя и с некоторой долей пикантности, лицо Калисы Петровны, взбитое золото ее кудряшек, ее кокетливое пенсне на цепочке и видел акробата, различившего в публике около своей возлюбленной другого, сорвавшегося с трапеции и разбившегося насмерть.
Пела Калиса Петровна с цыганской надрывной удалью «Венгерку» Аполлона Григорьева, после каждой строфы повторяя:
Эх раз,
Еще раз,
Д’еще много, много раз… —
Пела:
Мы на лодочке катались,
Золотой мой, золотой,
Не гребли, а целовались… —
и передо мной проплывала лодка по освещенному закатным солнцем речному простору, и я слышал несмелую нежность только-только пробудившегося чувства.
Пела Калиса Петровна с утешительным юмором:
Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь…
А, быть может, не любовь,
В самом деле, не любовь,
И, наверно, не любовь,
Да!
Мой миленок меня бросил,
Пойду в речке утоплюсь…
А, быть может, не пойду,
В самом деле, не пойду,
И, наверно, не пойду,
Да!
Кажется, нет ничего более доморощенного, чем эта песня:
Помнишь, помнишь ту полянку,
Ясно солнышко, цветы?..
Спозаранку на гулянку
Мы ходили – я и ты…
Василечки, василечки,
Голубые васильки…
Ах вы, милые цветочки,
Ах вы, милые цветки!
Та полянка отливала
Бархатистой синевой.
Васильки там я сбирала,
И ты, милый, был со мной…
(Припев.)
А теперь, теперь пропали,
Отлетели дни весны,
И на память мне остались
Лишь сухие васильки…
Василечки, василечки,
Голубые васильки…
Ах вы, милые цветочки,
Ах вы, милые цветки!..
Отчего же на эти выросшие прежде времени и не на месте, линялые, как на застиранных вышитых рубашках, «Василечки» откликались ваши сердца? Оттого, что в каждое слово певица вливала кручину разлюбленной, оглядывающейся на свое прошлое и в его еще недавно осиянной близи видящей осеннюю жухлую хмурь…
Что так скучно, что так грустно?
День идет не в день…
А, бывало, распевал я,
Шапка набекрень.
Эй вы, ну ли, что заснули?
Шевели-вели!
Удалые, вороные,
Гривачи мои!
С песней звонкой шел сторонкой
К любушке своей
И украдкой и с оглядкой
Целовался с ней.
(Припев.)
Мать узнала – все пропало:
Любу заперла
И из дому за Ерему
Замуж отдала.
(Припев.)
Я иную, молодую
Выберу жену:
В чистом поле, на просторе
Дикую сосну.
Эй вы, ну ли, что заснули?
Шевели-вели!
Удалые, вороные
Гривачи мои!
Калиса Петровна пела эту песню соло – то с непереносимой тоской разлуки, то с пугливым восторгом любви, то с бесшабашным отчаянием.
Припев подхватывали ее подруги, и в этом трио явственно различался голос той, что пела песню о недоле, его медовой густоты звук.
Только однажды промелькнула мимо меня захолустная эта певица цветистым и благоуханным, звучащим дивом, но след от встречи остался.
…Рядом с новыми всходами пышнели даже блеклые «Василечки», И не пахло от них клеветой, и не пахло от них злобой.
Красноармейцы, маршируя, горланили какую-то песню с припевом, в котором ее автор обнаруживал, по-видимому, близкое знакомство с дворцовыми нравами и психологическое чутье, помогавшее ему почувствовать весь строй души последней русской императрицы:
Распутина любила,
К Распутину ходила
Саша поздно вечерком.
За неимением своего бралось чаще всего чужое. Красноармейцы пели старинные народные песни со злободневным припевом. Насолил Советской власти Остин Чемберлен – готово дело: Перемышль и его окрестности оглашаются воинственным рефреном. Как говорится, «пришей кобыле хвост»:
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет…
Чемберлену по салазкам,
По его стеклянным глазкам Вдарим – бей,
Вдарим – бей,
Вдарим посильней!
Пели старые «жестокие» песни, ничего к ним не добавляя и не переиначивая их. Пели красноармейцы, пели мы, школьники, на строевых занятиях, маршируя в поле или по улицам;
– Знаю, ворон, твой обычай:
Ты сейчас от мертвых тел
И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.
Где же ты летал по свету,
Все кружась над мертвецом?
Где же ты похитил эту
Руку белую с кольцом?
– Расскажу тебе, невеста,
Не таясь перед тобой:
Под Варшавой есть то место,
Где кипел кровавый бой.
Бой кровавый, пир богатый
Буду помнить целый век.
Но пришел туда с лопатой
Ненавистный человек…
…………………………………….
Пели и новые песни, но ни слова, ни напев не уходили в народ:
Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон
Но от тайги до Британских морей
Красная армия всех сильней.
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой.
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой.
Великолепна здесь и достойна увековечения эта долженствующая неудержимость, эта наша всегдашняя добровольная принудительность!
После мейерхольдовского «Леса» получила широкое распространение народная песня прошлого века, которую в спектакле Мейерхольда играл на гармонике Петр. На этот мотив была кем-то сочинена песня «Кирпичики», перед которой «Акробат» или «Васильки» кажутся стихами Аполлона Майкова или Ал. Конст. Толстого:
Но, как водится, безработица
Размахнулась в рабочую грудь:
Сенька вылетел, а за ним и я,
И всего двести семьдесят душ.
Народ услышал в этой песне народный напев и за напев полюбил ее.
…В 23-м году жизнь шепнула Перемышлю: затишье обманчиво!..
Арестовали Петра Михайловича Лебедева.
Когда он еще сидел в калужской тюрьме, к нам пришли вечерком Георгий Авксентьевич и Юра Богданов. Пользуясь тем, что мать с теткой ушли, мы устроили «концерт». Георгий Авксентьевич обладал красивым голосом, но слух у него подгулял. Юра обладал абсолютным слухом, но голоса у него не было никакого. Я не мог похвастаться ни тем, ни другим. Несмотря на горькую участь, у всех троих была смертная охота попеть. Обычно репертуар нашего трио складывался из народных лирических песен. А тут мы почему-то затянули «Варшавянку»: