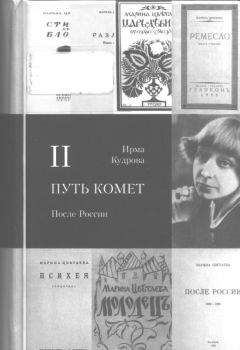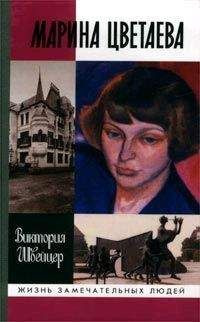Ирма Кудрова - Путь комет. Молодая Цветаева
В книжных лавках «Задруга» и «Колос» можно было теперь купить и заграничные русские издания: номера журнала «Современные записки», начавшего выходить в Париже. Или появившийся в конце этого года сборник «Смена вех».
В мартовском письме Волошину Марина пишет: «Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб — студия — театр и танец пожирают всё. — Но — свободно, — можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.
Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки. О С. думаю всечасно, любила многих, никого не любила…»
Этой весной Илья Эренбург выхлопотал себе разрешение на временный отъезд за границу. С Цветаевой у них уже давно установились дружеские отношения, и Илья Григорьевич пообещал: сразу же, как прибудет в Европу, он наведет справки о Сергее Эфроне. И если найдет — передаст ему письмо и стихи.
Марина отбирает самые любимые и, торопясь, переписывает, чтобы послать с Эренбургом, — скорее всего, это стихи из «Лебединого стана».
Ее письмо мужу полно отчаяния. «Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас… Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всеми и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь — жизнь, разве ему…»
(Таких обрывов и недоговоренностей в письме много. В частности, потому, что Марина предельно суеверна; «боюсь вслух, боюсь сглаза, боюсь навлечь…» — так объяснит она сама позже эту свою особенность в письме к Пастернаку.)
Без подробностей — где, когда, как — она сообщает мужу о смерти Ирины. И тут же: «Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудрявую голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешенья, кроме смерти. Но мысль — а вдруг С. жив?..»
Мысль об уходе из жизни всегда с ней рядом.
Так понимает она преданность кому-либо или чему-либо: если что — есть выход… Можно не сомневаться в искренности таких признаний. Она ощущает себя на кромке существования почти всегда — и от ее доброй воли тут, кажется, ничто не зависит.
Но, уехав из Москвы, Эренбург надолго застрял в Риге. Затем — через Копенгаген и Англию — приехал в Париж, оттуда был внезапно выслан, перебрался в Бельгию…
Между тем Марина считала дни и недели и укреплялась в своих мрачных предположениях. Временами ей казалось, что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом.
Глава 26
Князь Волконский
С князем Сергеем Михайловичем Волконским отношения Марины поначалу сложились неудачно. Она не раз встречала его за кулисами Третьей студии, знала, что он дружен со Стаховичем. После смерти Стаховича она написала князю письмо, в своем обычном стиле, игнорирующем все правила, — «простое, доверчивое, ласковое», так она сама считала, «вольное, но не фамильярное». Предлогом, совершенно неуклюжим, было желание узнать нечто об Англии, где, как она знала, Волконский бывал.
На другой день последовал телефонный звонок. С первых же слов стало ясно, что князь предельно взбешен: «Что вам от меня нужно? Незнакомым людям не пишут писем, это наглость!» Ошеломленная Цветаева пыталась что-то сказать. «Вы меня не так поняли…» — пробовала она объясниться. Куда там! Ни ее кроткая вежливость, ни извинения не смягчили Волконского. Потом уже Вахтанг Мчеделов, Сонечка Голлидэй и вдова Скрябина, в доме которой Волконский бывал, пытались заступиться, уверить князя, что Марина ничего дурного и в мыслях не имела, что подшучиванье, которое ему почему-то почудилось в письме и оскорбило, примерещилось на пустом месте… Все уговоры были впустую!
Но постепенно недоразумение все же сгладилось. Они сблизились, видимо, в 1920-м и подружились в 1921-м.
Бывший директор императорских театров, автор нескольких книг об искусстве театра, в 1921 году князь читал лекции в Московской филармонии. Шестидесятидвухлетний Волконский внешне был совершеннейший Дон-Кихот, словно скопированный с иллюстраций Гюстава Доре. Худой, хоть пунктиром его рисуй, с просоленными сединой волосами, с эспаньолкой, на тончайших ножках-жердях, в коротеньких, до колен, штанах, в серо-зеленой курточке нерусского образца… Так, почти карикатурно, выглядит внук прославленной Зинаиды Волконской в воспоминаниях Эммануила Миндлина, встречавшегося с князем как раз в 1921 году в Москве. Марина увидит однажды бережно сохраненный Сергеем Михайловичем бабкин альбом пушкинских времен.
Эту дружбу она отвоевывала упорно, настойчиво, терпеливо. И по прошествии времени Волконский уже охотно просиживает долгие часы в ужасной цветаевской квартире. Он в упор не замечает тут холода, разрухи и беспорядка, столько раз сладострастно описанного другими. Зато с удовольствием пьет паршивый кофе, приготовленный на керосинке; в комнате холодно, электричество то и дело тухнет, но они беседуют и читают стихи.
Князь Сергей Михайлович ВолконскийИногда вместе выходят на улицу — идут в гости к общим знакомым. Сверху сияют звезды. Обдает грязью проносящийся мимо автомобиль… Волконский будет потом вспоминать Марину такой, какой она была жарким летом 1921 года, — в сандалиях на босу ногу, а то и вообще босой, с котомкой за плечами. В котомке — ржаные лепешки и рукопись стихов.
Попервоначалу Марина, разумеется, влюбилась, — как же иначе! — со всем присущим ей пылом-жаром и неподдельными страданиями. Если она не видит Волконского три дня — ей кажется, что минул, по крайней мере, месяц. «Какую власть, — сокрушается она в своем дневнике, — имеет человек над человеком. Ежедневное положение во гроб и воскрешение из мертвых!» Но идет время, и прохладная сдержанность князя заставляет Марину перевести свой жар на другие рельсы. Она всеми ушами слушает рассказы Волконского, что-то ему отвечает, но ей кажется, что он-то ее не слышит. Его реакции всегда такие тихие, как будто даже незаинтересованные… Этакое, записывает она в своей тетради, изящное отсутствие человека в комнате…
Внимателен, ласков, но что за этим? Вежливое равнодушие?.. Ну да, решает она, он самодостаточен, ему никого и не нужно. Она находит этому объяснение — «эгоист из породы Гёте». Ему и не нужны собеседники!
Изредка она бывает в московском доме Волконского в Шереметевском переулке — в громадных холодных комнатах с высокими потолками. Жена Волконского, сама писавшая стихи на латыни, время от времени устраивала вечера; здесь бывал, наезжая из Петрограда, граф Зубов, пианист Игумнов играл «Аппассионату».