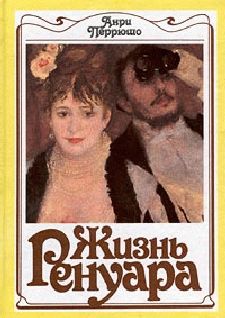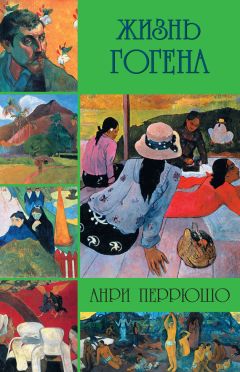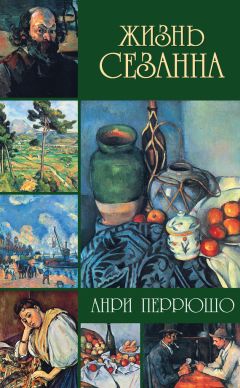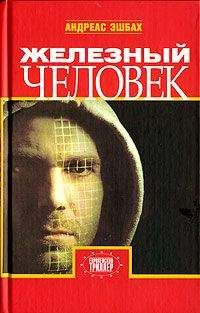Анри Перрюшо - Жизнь Ренуара
Ренуар и Марсиаль Кайботт лучше кого бы то ни было знали цену официальным доводам. Но, считая, что было бы неразумно занять непримиримую позицию, они ответили Ружону согласием. А намерение Ружона выбрать из завещанной коллекции определенное число картин даже устраивало Ренуара, как, впрочем, и некоторых его товарищей.
«Повсюду кричат, будто коллекция состоит из одних шедевров. Но это же безумие! – говорил он. – В ней есть первоклассные картины Мане, Моне, Дега, Писсарро, Сислея, интереснейшие работы Сезанна. Но среди них множество эскизов и этюдов, отнюдь не являющихся музейными экспонатами. И мы первые были бы недовольны, вздумай кто-нибудь заведомо объявить их шедеврами. Потому что в тот день, когда к ним допустили бы публику, она стала бы смеяться над нами».
Казалось бы, предложение Ружона, принятое Ренуаром и Марсиалем Кайботтом, можно считать эпилогом всей этой истории. Но не тут-то было. Спустя полтора месяца – 22 июня – Леонс Бенедит по зрелом размышлении пришел к выводу, что подобное соглашение противоречит воле покойного. «Совершенно ясно, – заявил он, – Кайботт хотел, чтобы его коллекция была принята или отвергнута целиком. А раз так, отобрать из нее часть картин не представляется возможным: государство должно или принять в дар все завещанные ему картины, или отвергнуть их». Сам Бенедит высказался в пользу первого варианта: двадцать пять – тридцать картин будут направлены в Люксембургский музей, а остальные сорок – распределены между музеями Компьеня и Фонтенбло.
Марсиаль Кайботт и Ренуар согласились на это предложение. Однако тут вмешались адвокаты. Коль скоро Бенедит ссылался на завещание, заявили они, то в последнем ясно оговорено, что передаваемые в дар государству картины ни в коем случае не должны быть помещены «на какой-нибудь чердак или же в провинциальный музей, а должны быть направлены в Люксембургский музей и впоследствии – в Лувр!».
« – Но разве вам неизвестно, что музеи в Компьене и Фонтенбло – это филиалы Люксембургского музея? – восклицал Мирбо в своем фельетоне, написанном в виде диалога. – Какая уж тут провинция, черт побери! И какие это замечательные исторические памятники!..
– Люксембург – или ничего!
– Ах, вы несносны! Убирайтесь!
– Значит, решено? Вы отказываетесь от коллекции?
– Я отказываюсь, не отказываясь. Я принимаю ее, не принимая! Давайте вернемся к этому вопросу лет через пятнадцать».
* * *
8 августа Берта Моризо покинула Париж, чтобы вместе с дочерью провести теплые дни в Бретани. Сняв на несколько недель домик в Портрие, на западной стороне залива Сен-Бриак, она предложила Ренуару приехать к ней.
Художник ответил ей, что «в этом году не может уезжать слишком далеко», что ему придется довольствоваться поездкой в Бенервиль к Галлимару, «потому что это всего лишь в четырех часах езды от Парижа».
В сентябре Берта снова совершила короткое путешествие в Бретань. Там, на почте в Орэй, ее ждало очередное письмо Ренуара, из которого ей стала ясна причина его прежних, несколько невнятных объяснений.
«Я должен сообщить вам одну предельно нелепую новость… У меня родился второй сын, и зовут его Жаном. Мать и дитя чувствуют себя превосходно».
Ребенок родился 15 сентября в Замке туманов.
Чтобы помочь Алине в работе по дому, к ней приехала из Эссуа одна из ее дальних родственниц – Габриэль Ренар. Отныне и она тоже стала членом семьи художника. В этой шестнадцатилетней девушке жизнь била ключом, прелестные ямочки, точно два маленьких солнца, сияли на лукавом смуглом личике деревенской красотки, привыкшей подолгу бывать на воздухе. Она была бойка, порой даже чуть-чуть дерзка. Ничто не удивляло эту девушку, и ничто не внушало почтения ей, равнодушной ко всему внешнему, не заботившейся ни о своих нарядах, ни о манерах, ни о впечатлении, которое могли произвести ее неожиданные реплики, обезоруживающие своей искренностью и подчас смешные своей непоследовательностью, но только непоследовательностью совершенно особой, свойственной ей одной. Не получив никакого, точнее, почти никакого образования, хотя она и воспитывалась «у монахинь», эта дочь виноделов, рано узнавшая все тайны природы, обладала непосредственностью зверька, радующегося жизни и весело резвящегося днями напролет. Такое полное отсутствие какой бы то ни было принужденности, «манерности», такая безыскусственность радовали сердце художника. Габриэль со своей стороны очень скоро стала относиться к «хозяину», как она его называла, с обожанием.
Новорожденный ребенок и эта юная плутовка словно бы принесли художнику свежее дыхание жизни. Да они и впрямь были посланцы жизни, вечно меняющейся и обновляющейся.
В саду Замка туманов увядали одни розы, распускались другие. А сколько смертей вокруг! Умерли сын Дюран-Рюэля, Шарль, и Кайботт, умерла 33 лет от роду Жанна Самари, жизнерадостная молодая актриса. Умерли Виктор Шоке и де Беллио; умер Эммануэль Шабрие, разбитый параличом, в последние годы он был совсем жалок, не узнавал даже собственной музыки. «Обаятельный, щедрый, красивый человек. Красивый! Это-то и погубило его! Слишком уж он любил этих дам из Оперы. И не только за их голоса».
Шабрие скончался 13 сентября, за два дня до рождения Жана. Извечный круговорот жизни и смерти! Конец и начало. Да и что мы такое, если отвлечься от всяческого тщеславия, эффектных поз, от всего, чем мы, пылинки, опьяненные безмерной спесью, похваляемся и гордимся, от нашего всеобщего чванства, – что мы такое, как не беглый миг вечного движения, как не случайная частица великого целого, изменчивого и бесконечного? Но Ренуар был наделен такой великолепной естественностью, что в радости, как и в горе, он ощущал свою изначальную связь с великим потоком, все увлекающим за собой, все в этом мире смешивающим и перемалывающим.
Кто знает, может, это спокойное упование на силы жизни и даровало Ренуару его безмятежность, его улыбчивую мудрость?
В начале октября его скрутила «проклятая ревматическая боль», которая почти совсем приковала его к дому («нет ног!») вплоть до второй половины ноября. Но несмотря на все, он продолжал писать, и картины его были ликующим гимном жизни. Краски его, теплые, как кровь, сверкали под пляшущими бликами света. Тельце ребенка, хрупкое и нежное; берега Ла-Манша, синего, как Средиземное море, окутанного солнечной дымкой. Молодые женщины, открывающие пышную грудь, круглое плечо; женщины с золотистой кожей. Длинные, шелковистые девичьи волосы, выбивающиеся из-под широких соломенных или плетеных шляп, украшенных розовыми лентами, – что бы ни писал Ренуар, все у него, одинаково сочно, одинаково радостно, всюду звучит та же торжествующая языческая песнь.