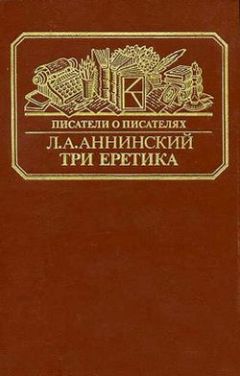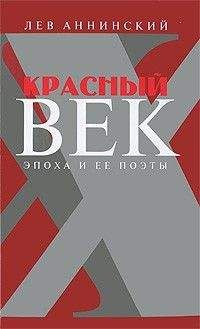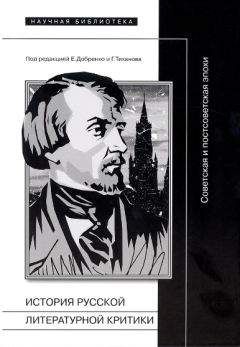Лев Аннинский - Три еретика
Позиция 1857 года. Розги не нужны. Двести лет преследований раскола ничего не дали. Раскольники никогда не заключали и теперь не заключают в себе ничего опасного для государства и общества. Преследовать их вредно. Вредно думать, будто русский народ нравственно неразвит: он вовсе не неразвит, как обыкновенно считают, он лишь имеет своеобразное миросозерцание. Нельзя обращаться с ним, как с непослушным ребенком. Старообрядцы не подходят для такого обращения. В нынешнем расколе виноват не народ, якобы упорствующий в безнравственности, а безнравственная система духовной власти: православная ортодоксальная иерархия, кощунственно пренебрегающая своими пастырскими обязанностями. Среди десяти раскольников едва ли найдется один убежденный, остальные же никакие по существу не староверы, они с готовностью присоединятся к церкви, если будет устранено бесчиние и святокупство духовенства, своими руками толкающего народ в руки фанатиков и коноводов раскола.
Между 1854 и 1857 годами происходит в душе Мельникова тот самый поворот, о котором один ортодоксальный владыка сказал: «из Павла в Савла», а один светский писатель: «от анафемы к аллилуйе».
Превращение это мало походит на катарсис, потрясающий душу. Вовсе нет. Мельников меняет позицию со спокойной уверенностью человека, знающего, что в любом случае – истина за ним. Тут главная разгадка его стиля, его интонации, его способности противоположные суждения произносить равно уверенно.
Для понимания текстов писателя Андрея Печерского это обстоятельство не менее важно, чем для понимания действий чиновника Павла Мельникова. В стиле Печерского критики будут искать секрет «объективности», они будут говорить о позиции авторского «невмешательства», будут называть его «литератором факта». Я думаю, что перворазгадка этого стиля не в особенностях «художественного письма», а в особенностях письма делового, на котором и выковалось перо Мельникова-Печерского. Идея заключается в том, что чиновник всегда прав. Он может гнуть вправо, может гнуть влево, но он не должен терять качества, которое обеспечивает ему гармонию отчета. Выверяется прежде всего мелодия предусмотренной правоты и всегдашней невозмутимости: мы предвидели, мы ждали момента, раньше было нельзя, а теперь самое время сказать…
Мельников – виртуоз отчета: он разворачивается на сто восемьдесят градусов, как бы не замечая разворота. Само по себе это неудивительно: служба. Удивительно другое: тот феноменальный эффект, который служебная хватка дает в художественных текстах Печерского.
Пласты сосуществуют, черное невозмутимое освечивает сквозь белое, автор говорит страшные вещи, как бы не замечая, насколько это страшно. Все это мы оценим весьма скоро: как только Печерский вернется к беллетристике. Но пока что оценим акции Мельникова: его успехи на поприще изучения раскола не случайны, как не случаен и интерес к этой теме в русском обществе на переломе к шестидесятым годам девятнадцатого столетия.
Это вопрос живой и даже опасной политики. Ставится он так: правда ли, что староверы – почва для бунта? Насколько жива их бунташная традиция? Надо ли ее опасаться теперь, в 1850-е годы? Как со староверами поступать? Давить? А вдруг это не потенциальные бунтовщики, а, наоборот, потенциальные верноподданные?
Правительство Николая I, по вековой инерции, – давило. Правительство Александра II вдруг обнаруживает, что никто, в сущности, не ориентирован в предмете: применительно к расколу нет ни статистики, ни истории, ни законодательства. Александр II роняет соответствующее замечание – министерства и департаменты разворачивают соответствующую деятельность: собирают комитеты, снаряжают экспедиции, учиняют сыски… Мельников взлетает на этой волне.
Вопрос действительно неясен, и возможность того, что раскольники – это пороховой погреб под государством Российским, вообще-то говоря, вполне реальна. Не так далеко уже до появления костомаровской книги о расколе, с первой страницы которой прозвучит следующее: «Раскол был крупным явлением народного умственного прогресса, едва ли не единственным явлением, когда русский народ не в отдельных личностях, а в целых массах, без руководства и побуждения со стороны власти (! – Л.А.) показал своеобразную деятельность в области мысли и убеждения… Раскол не есть старая Русь; раскол – явление новое…»
Легко представить себе, какой оборот это воззрение может принять у радикально мыслящего человека. Недаром же прикован к этой проблеме и Герцен, и учреждает при «Колоколе» приложение для староверов: «Общее вече», и выпускает четырехтомное кельсиевское собрание материалов по расколу. Академическая наука в России граничит с тюрьмой и острогом. Является Щапов: «Церковно-гражданский демократизм раскола – это многознаменательное выражение народного взгляда на общественный и государственный порядок России, проявление недовольства низших классов народа, плод болезненного, страдательного, раздраженного состояния духа народного…»
Так ли это? Если и не так, то Щапов, без сомнения, из тех мыслителей, которые не остановятся и перед тем, чтобы помочь действительности стать такой, какова она должна быть…
Мельников, после известного нам поворота «от анафемы к аллилуйе», ставит противоположный диагноз: опасности нет, давить не следует, надо завоевывать доверие.
Две концепции раскола, выдвинутые в середине пятидесятых годов, получают название: щаповская и мельниковская.
Щапов за свою концепцию расплачивается жизнью: сосланный в Сибирь, он умирает там под надзором полиции.
Мельников становится официальным экспертом по расколу.
Дело не только в том, что его концепция о необходимости усиленного изучения старообрядчества с целью завоевания его на свою сторону совпадает с замечанием Александра И; дело еще и в том, что официальный приказ, который Мельников начинает исполнять с обычным для него чиновничьим рвением, совпадает с его прирожденным даром историка и исследователя нравов. Он с такой быстротой набирает по этой части знания, что позднейшие биографы (например, А.Ланщиков) специально оговаривают тот факт, что по выходе из университета этот человек знал о расколе не более, чем любой средний интеллигент того времени.
К тридцати годам он знает все. Он – главный российский «расколовед». В глазах староверов он – «зоритель» и Антихрист; в глазах власти – специалист, без которого не обойтись в решении какого бы то ни было конкретного дела по расколу.
Один эпизод. С конца 1854 года со следствием по староверческим делам объезжает округу молодой чиновник из Вятки, советник губернского правления Салтыков. Нити следствия приводят его в Нижегородскую и Казанскую губернии. Министр внутренних дел предписывает Салтыкову непременно скоординировать действия с главным специалистом по расколу Мельниковым. Оба чиновника съезжаются в Казани, знакомятся и вместе едут дальше. Приезжают к семидесятичетырехлетнему раскольнику Трофиму Щедрину. Во время обыска Мельников затевает со стариком спор о вере: возможно, он хочет продемонстрировать своему спутнику искусство завоевания умов. Трудно сказать, что думает и чувствует молодой коллега Мельникова при виде того, как наседает на старика главный расколовед и как с умною и спокойною непреклонностью держится под этим напором раскольник. Может быть, молодой вятский чиновник краснеет от стыда, а может, копит тихую ярость, – во время этой сцены он, судя по всему, молчит. Известно только, что фамилия старика: «Щедрин» – становится отныне литературным именем Салтыкова.