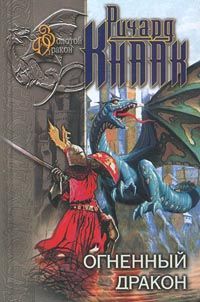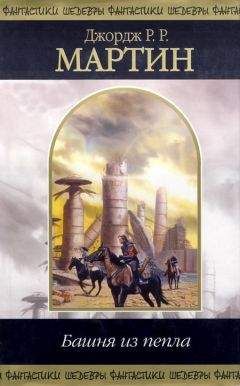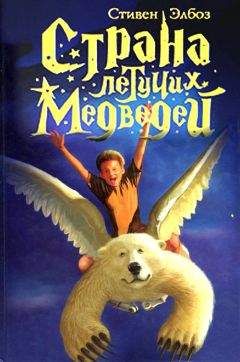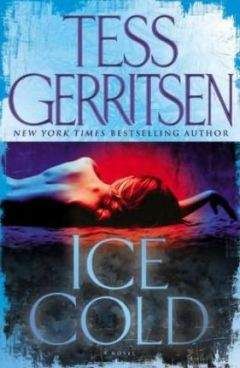Валентин Ерашов - Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове
И действуют устрашающе.
Процесс начался 19 сентября 1906 года,
1Путь известен, с Невского повернул на Литейный. Шурша, падали жестяные листья, пахло конским навозом и аптекой, а тут вот — книгами, значит, миновал магазин и склад Калмыковой… Бассейная, Кирочная, Сергиевская остались позади, вот и Шпалерная, вот она, родненькая, ее бы не знать — четырнадцать месяцев оставлены в предварилке… И рядом — Окружной суд…
О том, что происходит в процессе, Шелгунов знал из газеты «Право», а больше — от Николая Полетаева, старого друга, одного из подсудимых, оставленного на свободе с подпиской о невыезде.
Открытый процесс был одновременно и закрытым. Наряды полиции, пешие и конные, теснились в переулках, ближних дворах, вокруг здания суда. В коридорах — воинский караул, притом не здешний, специально вызвали из надежного Семеновского полка из Москвы, полк отличился в подавлении Декабрьского восстания, командир его, полковник Мин, удостоился генеральских эполетов; правда, носить их довелось недолго: нынешним августом его убила эсерка Зинаида Коноплянникова… Зал, охраняемый семеновцамн, можно сказать, давно вошел в историю: здесь, в процессе по делу ста девяноста трех, произнес знаменитую речь Ипполит Мышкин, здесь говорили Андрей Желябов, Софья Перовская… Их еще помнил, рассказывали, судебный пристав, тоже своего рода знаменитость, Николай Николаевич Ермолаев, человек, «поседевший в цареубийствах», как его прозвали… Это и теперь он возглашал: «Прошу встать, суд идет!»
А публику, специально отобранную, допускали только по специальным письменным разрешениям. И публики, рассказывал Полетаев, едва ли не меньше, чем действующих лиц: пятьдесят два подсудимых (их арестовали еще в декабре), члены суда, прокурор, присяжные поверенные, охрана, служители… Но, как ни отфильтровывали публику, а просачивались нежелательные — из тех, кто сочувствовал подсудимым: в первое заседание все обвиняемые вошли с поднесенными этой публикой розами и красными гвоздиками. «Да ведь это не суд, а пикник!» — воскликнула стенографистка… И дальше продолжались всевозможные казусы. Доставленного из Смоленской губернии свидетеля, мелкого торговца Гуревича, допрашивали насчет сотрудничества в «Петербургском листке». Оказалось, что свидетель и в столице не бывал никогда, и вообще в жизни своей не писал ничего… А случались оплошности отнюдь не смешные. О причине, по какой не явился в суд обвиняемый Тер-Мкртчан, председательствующий Крашенинников был вынужден сказать, что подсудимый расстрелян еще в июле за участие в Кронштадтском восстании… Выходит, намеревались устроить судилище над мертвым…
Рабочие депутаты сразу сделали заявление, что решили давать показания в этом исключительном процессе только для того, чтобы воспользовать его в политических целях, для публичного выяснения истины о деятельности и значении Совета. К Шелгунову приходили, по старой памяти, обуховцы, сообща составили обращение к суду:
«Убедившись в том, что правительство хочет произвести суд, полный произвола, над Советом рабочих депутатов, глубоко возмущены стремлением правительства изобразить Совет в виде кучки заговорщиков, преследующих чуждые рабочему классу цели. Мы заявляем, что Совет состоит не из кучки заговорщиков, а из истинных представителей всего петербургского пролетариата… Поэтому надо судить не одних членов Совета, а весь петербургский пролетариат».
«Насчет кучки заговорщиков, — думал Шелгунов, — я в суде, разумеется, выскажусь. Нас было пятьсот шестьдесят два депутата почти от полутора сотен фабрик и заводов, тридцати с лишним мастерских, от шестнадцати профессиональных союзов. Кучка заговорщиков, господа? Конечно, среди нас не было единства, в Совете не преобладали большевики, но, при всех ошибках и недостатках, Совет выступал за созыв Учредительного собрания, установление демократической республики, амнистию политическим заключенным, восьмичасовой рабочий день. Правильные требования! Совет не только призывал, но и действовал: руководил октябрьской стачкой, которая сделалась всеобщей, не одни рабочие бастовали, а и чиновники, служилая интеллигенция почты, банков, контор, даже судебных учреждений. Быть может, вам, господа судьи, тоже известно, что был даже факт забастовки — в полицейском участке. И, уж вовсе курьез, объявляли стачку в „веселых домах“, — последнее, конечно, только забавно. Однако забастовка и в самом деле стала всеобщей, и заслуги Совета не отнять, какая уж там кучка заговорщиков… И не забудем, господа, что Совет захватил типографию, в ней легально печатал „Известия Петербургского Совета“. Не забудем, что именно Совет придерживал замахи черносотенцев. Помните ли, господа судьи, речь перед вами бывшего члена Государственной думы Брамсона? Он рассказывал, что в департаменте полиции организовали специальный отдел по руководству погромами, у всех дворников собрали сведения о проживающих евреях и, словно в преддверии Варфоломеевской ночи, на дверях ставили мелом букву „Ж“, намек более чем прозрачный — жид! — и детишки говорили своим ровесникам-евреям: „Скоро вас перережут!“ И не кто другой, как Совет, взял еврейские семьи под охрану, спас их… И в октябре прошлого года мы стояли на пороге вооруженного восстания, обуховцев даже пришлось удерживать от преждевременного выступления. А когда восстание назрело, мы бы подняли его, если бы не сопротивление меньшевиков. Не знаю, довелось ли вам, господа судьи, читать письмо Ленина, оно ходило в списках: „В политическом отношении Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш временного революционного правительства“. Если не читали, если сделаете вид, будто не читали — я приведу эти слова в свидетельских показаниях. Вы не позволите говорить долго, но я продумал свои показания, и будьте уверены — показания не в вашу пользу, господа!»
Время до явки в суд еще оставалось. Шелгунов присел на скамью у тихой невской набережной… Было ему о чем вспомнить здесь — десять почти лет минуло с той поры, как покинул предварилку, рядом с Окружным судом…
2Из ДПЗ, объявив под расписку высочайшее повеление, выпустили 14 февраля. Полагалось три дня для сборов, но Шелгунов выхлопотал еще несколько суток, чтобы показаться врачу. У доктора побывал, толку оказалось мало, он махнул рукой. Переночевал у своих, наведался к Яковлевым — Марфушка-младшая как выросла, четырнадцать лет, а уже невестой смотрит! — я после долгих осторожных расспросов узнал, что Ульянова можно повидать на Большой Сампсониевской, 16, где в отсутствие Степана Радченко сняла квартиру его жена.