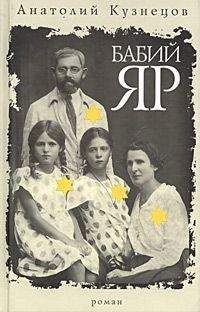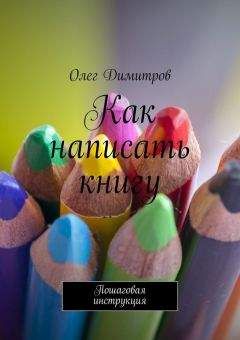Юлий Марголин - Путешествие в страну Зе-Ка
Гордеева была женщина с очень энергичным худым лицом классной дамы, совершенно седыми волосами (ей было под сорок), держалась строго, серьезно и деловито, не позволяя себе ни улыбки, ни лишнего слова. Это была типичная службистка. В прошлом она уже была начальником лагпункта. Выслушав меня, она задумалась: проситель выглядит как чучело, но — человек ученый, «доктор философии» и западник. Пишет гладко, но известно, что чем человек грамотнее, тем хуже работает. А на весь лагпункт — только пяток рубах первого срока, — забронированных на особые случаи. Но как же быть с человеком, употребляющим столь сильные слова: «граница, ниже которой человек не смеет опуститься?» И она выписала мне рубаху первого срока.
Каптер глазам не поверил: кому рубаха? Но когда и Павел Иванович, инспектор ЧОСа, подтвердил высочайшую волю, — выдали мне новехенькую, ненадеванную рубаху толстого миткаля, с деревянными пуговицами, длинную, цвета сливочного масла — одеяние богов. Такую рубаху я сию минуту мог обменять на хлеб. Но я и не думал продавать ее! Я облачился в нее, как в чудотворную броню. В этой рубахе я мог еще год держаться в лагере.
Такова была сила слова! Но я решил идти дальше. Я написал письмо Илье Эренбургу. Понятно, я не рассчитывал на то, что Илья Эренбуг это письмо получит. Даже, если бы он его получил — никогда этот лауреат и заслуженный советский классик не позволил бы себе отвечать на письма, приходящие из лагеря! Советские писатели хорошо знают, с кем можно и с кем нельзя переписываться. Это — люди законопослушные и осторожные: «орденоносцы». Но я и не рассчитывал вовсе на И. Эренбурга, с которым когда-то, — во времена давно прошедшие, — имел общих знакомых, и который никогда не знал меня лично. Я хотел только с помощью этого письма закрепить личный контакт с Гордеевой, начальницей ЧОСа.
Вот что я написал Эренбургу.
«…Я не советский гражданин. Меня объединяет с Вами литература. В моих глазах Вы — посол русской литературы заграницей, один из людей, представляющих Советский Союз в общественном мнении Запада. Вы не можете помнить меня и тех времен, когда мы встречались в берлинском „Доме Культуры“ и „Prager Diele“. Я зато Вас хорошо знаю: от первых стихов.
„В одежде города синьора — на сцену выхода я ждал
И по ошибке режиссера — на пять столетий запоздал…“.
и позже, когда Вы так энергично поправили ошибку режиссера, и до „Падения Парижа“ — последнего, что попало в мои руки.
…Теперь мне нужна Ваша спешная помощь. Судьба привела меня на крайний север России. Мир полон моих друзей. Но я отрезан от них, и во всем Советском Союзе нет ни одного человека, к которому я бы мог обратиться с такой просьбой. Помогите мне, как может помочь один работник пера другому. Пришлите мне несколько книг (если можно, английских), несколько слов (если можно, дружеских). Контакт с Вами имеет для меня великое значение… Если заняты, поручите кому-нибудь другому ответить…
Из головы не выходит у меня одно Ваше четверостишие (кажется, из „Звериного Тепла“):
Молю, о ненависть, пребудь на страже,
Среди камней и рубенсовских тел.
Пошли и мне неслыханную тяжесть,
Чтоб я второй земли не захотел…
Я повторяю часто эти строки, хотя мое окружение очень далеко от Рубенса и больше напоминает призраки Гойи…»
В оригинале было немножко иначе. И слова «ненависть» не было в последней цитате, чтобы не смущать цензуру догадкой о том, что за ненависть такая — и кому, и зачем посылается неслыханная тяжесть…
Это нелепое письмо, вроде чеховского письма «на деревню дедушке», я отнес Гордеевой. Во-первых, я поблагодарил ее за рубашку и за «человеческое участие» (хитрец!), а во-вторых, попросил у нее совета: вот, написано письмо Эренбургу. Как она думает — отсылать ли?
Мне хотелось проломить стену, которая отделяет начальство от з/к, заинтересовать Гордееву, заставить ее видеть во мне человека, а не заключенную «единицу рабсилы». Я знал обычную женскую психологию (любопытство, инстинкт спекания, интерес к непонятному), но не знал психологии советской женщины. Гордееву письмо напугало, и первое ее движение было — подальше от греха. Никакого совета она мне не дала, а схватила письмо и немедленно, как только я вышел из ее кабинета, отнесла начальнику Отделения Богрову, который тогда находился в Круглице. Больше ни я с ней, ни она со мной ни о чем не разговаривали…
На следующий день я был вызван к Богрову. Начальник Отделения, (т. е. серии лагпунктов вокруг Круглицы), заинтересовался странным письмом и его автором. Письмо содержало явный «крик о помощи в пространство». Пухлощекий и толстый Богров обошелся со мной очень мило, посадил, угостил из кисета махорочкой, — и три часа разговора пролетели как одна минутка. Богров, конечно, читал Эренбурга, но были в моем письме непонятные места, которые он попросил объяснить. Что такое «Prager Diele»? А кто это Гойя? Мы разговаривали, как двое равных, точно я к нему в гости пришел. Разговор пошел сперва об Эренбурге, потом о том, как я попал в советский исправительный лагерь, наконец, о жизни в Европе и Польше. Я мог убедиться, как мало знало наше начальство об обстоятельствах, приведших в их распоряжение столько иностранцев «западников». Неподдельное удивление отражалось в глазах Богрова, когда он услышал рассказ о том, как зарегистрировали полмиллиона беженцев «на возвращение», а потом вывезли их в противоположную сторону, в лагеря. Если теория марксизма утверждает, что средний человек в капиталистическом мире обречен на фатальное непонимание целого, и мир поэтому кажется ему иррациональным и превышающим разумение, — то здесь сидел предо мной Massenmensch советской системы, который не понимал даже того, что происходило у него под носом. Наш разговор скоро ушел в сторону, и Богров начал с наивным любопытством расспрашивать о совершенно постороннем. Я работал до войны в акционерном обществе, что это такое? — Хитрый механизм этого капиталистического учреждения просто захватил его. Так мы переходили от темы к теме, совершенно забыв, где находимся. Наконец, Богров спохватился. Я спросил о письме. Он его спрятал в карман. — «Да нет, знаете, — все равно, не отошлют ведь». И спросил, как мне живется. Не стоило спрашивать: вид мой сам за себя говорил. Богров меня утешил: «летом легче будет», — и отпустил меня, в повышенном настроении. На этом и кончилась моя переписка с Эренбургом. Не знаю, было ли это случайным совпадением, но мне казалось, что после беседы с Богровым отношение ко мне круглицкой админстрации стало лучше, и работа легче. Затем, этот разговор имел продолжение, о чем позже…