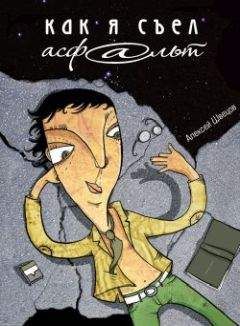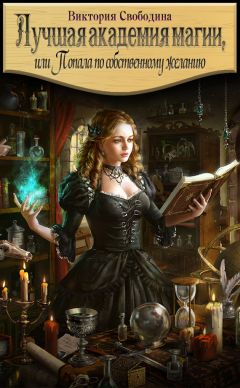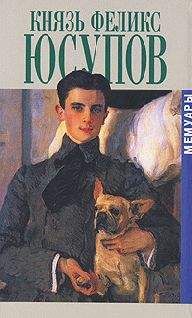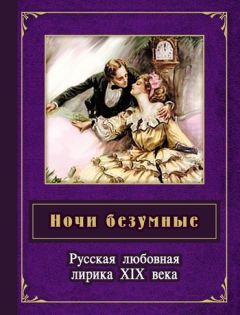Алексей Буторов - Князь Николай Борисович Юсупов. Вельможа, дипломат, коллекционер
Николай Борисович был очень благодарен Щербакову за понесенные труды. «Главный управляющий Ракитянской канцелярии» И. М. Щербаков как-то получил от Юсупова трогательный подарок, хотя это слово не совсем уместно в данном случае. Еще при княгине Ирине Михайловне Юсуповой, матери Николая Борисовича, в их доме поселилась «немецкой нации Крестина Ивановна Осте», занимавшаяся «деланием чухонского масла и сыров». Ее и крепостного Ивана связывало большое чувство. Соединиться они не могли — иначе бы по закону и Кристина Ивановна стала крепостной.
Уже на склоне лет, когда Щербаков овдовел, у него имелось двое сыновей-подростков, а сам он получил освобождение от крепостной неволи, Юсупов предложил немолодой немке перебраться в Ракитную, дабы наладить там «делание чухонского сыра и масла». За это ей полагался оклад в сто рублей годовых. В мае 1806 года Кристина Ивановна уже жила в слободе Ракитной, но налаживала там не только сырное производство. Не забыла она и личное счастье. Вскоре ее стали величать «Крестина Ивановна Щербакова»…[193].
Однако счастье оказалось недолгим. В начале лета следующего года Кристина Ивановна тяжело заболела, и Николай Борисович настоял на том, чтобы больную перевезли в Москву. «На визиты докторам, на лекарство, на кушанье, на хлеб, сахар, чай…» Московская канцелярия по указанию князя израсходовала 767 рублей 85 копеек за неполных три месяца. 1-го сентября Кристина Ивановна умерла. Юсупов оплатил ее погребение, а также расходы по проезду и житье в Москве И. М. Щербакову с сыновьями. Кристина Ивановна, надо думать, оказалась доброй мачехой, если пасынки сопровождали ее в Москву на лечение, — весенняя дорога в те годы доставляла мало удовольствия[194].
Неизв. художник конца XVIII в. «Праздник в деревне». ГТГ.
Крайне не любил Николай Борисович своевольных лентяев и пьяниц. В бездонном Юсуповском архиве В. И. Иванова нашла документы, которые рассказывают о настоящей борьбе князя за своего «економа», приказчика Степных вотчин Алексея Соколова. В трезвом виде он являлся опытным администратором, вытащившим из финансовой «ямы» обширные Степные поместья князя. В виде нетрезвом Соколов в одночасье пропивал не только собственное жалованье, но даже собственную одежду, оставаясь в кабаке вовсе без оной.
Юсупов вполне трезво решил, что только женитьба может остановить запои приказчика. «Иван Щедрин, — пишет князь управителю Московской канцелярии. — Как в данной от меня Степному прикащику Соколову инструкции сказано, чтобы он был женат через три месяца, но я вижу, что и по сие время не женат, то предпиши ему, чтобы он, сыскав себе невесту, и женился бы…
Князь Юсупов. 26 июля 1800 года. Санкт-Петербург».
Архангельское. Римские ворота. Снесены. Открытка 1910-х гг. Из собр. автора.
«Иван Щедрин, — пишет Юсупов спустя менее месяца. — …предписываю тебе приискать невесту и женить находящегося в Степных вотчинах приказчика Алексея Соколова, ибо я вижу, что он пьянствует, от чего конечно в вверенных от меня ему деревнях Управлением происходят от крестьян неустройства в послушании, как из дошедших мне бумаг видно…
Князь Юсупов. 10 сентября 1800 года. Санкт-Петербург»[195].
Алексей Соколов невесту себе так и не нашел, а вместо того заполучил «дурную болезнь», от которой его лечили по приказанию Юсупова в Москве на княжеский же счет. И после этого от Соколова не отвернулись. Его перевели для перевоспитания приказчиком в подмосковную вотчину Труневку, где он обрел семейное счастье и осел уже навсегда.
Надо сказать, что не всякая история имеет счастливый конец. Так, крепостной архитектор Иван Некрасов, которому поручалось немало ответственных заданий по ремонту московского дома и строительству в подмосковной усадьбе Спасское-Котово, бежал от господина летом 1800 года. Пойман он был осенью в городе Черкасске Новороссийской губернии. Юсупову пришлось давать взятку в 25 рублей за «отмену для архитектора Некрасова рекрутства и… публичного наказания» неизвестному чиновнику Московской палаты суда и расправ. Действительно, расправа оказалась домашней. Некрасова нещадно били розгами, а потом отправили на работу в Ракитную слободу[196].
Корреджо. Женский портрет. Около 1520 г. Государственный Эрмитаж. Из собрания Н. Б. Юсупова.
Вот еще одна история. Ракитянский крепостной Иван Макаров Костюченко обладал исключительным музыкальным слухом, прекрасным голосом и к тому же виртуозно играл на скрипке, но употреблялся на возке дров, копании торфа и «протчей земляной работе». Двадцатилетний музыкант не выдержал такого издевательства и бежал из Москвы, прихватив с собой скрипку да собственную одежду. Он дошел до Харькова, где его поймали бдительные чины полиции и препроводили назад в Москву. Месяц спустя крепостной был сдан в солдаты по рекрутской квитанции, что принесло немалый доход Московской конторе, хотя едва ли покрыло издержки, затраченные на обучение Ивана-музыканта. Не нужно забывать, что такие случаи в крепостной России оставались правилом, не исключением, хотя у князя Юсупова, где учет был поставлен достаточно хорошо, они встречались сравнительно редко[197].
Таковы были люди, которые вместе с Николаем Борисовичем управляли его обширными имениями и которые с ним вместе смоги добиться получения вполне приличных доходов по каждой статье обширного княжеского бюджета. Из чего же и как он складывался?
Если тщательно соблюдать столь обязательный еще совсем недавно «классовый подход» в рассказе «о роли личности в истории», то перед читателем непременно нужно раскрыть истоки богатств князя Юсупова, а равно и методы ведения им феодального хозяйства, «нещадной эксплуатации» предков будущих крепостных колхозников и так далее и тому подобное. Дабы понять идеологию экономической жизни прошлого, как государства в целом, так и отдельного исторического лица, приходится обращаться к самым разнообразным историческим источникам. Читаешь хозяйственные документы рубежа XVIII и XIX веков и так жалко становится «бедных» помещиков. Все тот же Юсупов вместо философского трактата обязан был по утрам ежедневно и до конца дней своих читать что-нибудь вроде «Ведомости по архангельской фабрике, сколько имелось козьего пуху с 1813-го года генваря с 15-го числа и по 7-е число мая» или «Регистра фабричным, кто именно состоял по разсчетам в прошедших месяцах за хлеб должными и с кого вычтено и за вычетом осталось на них значит ниже сего 1813 года»[198]. Разумеется, имелся и другой вариант — отдать все управителю-немцу, который бы благополучно все разорил, но зато и в хозяйство вникать не требуется.