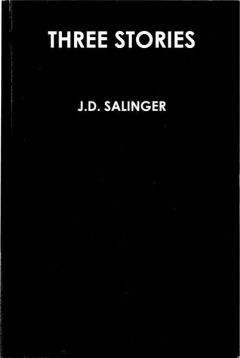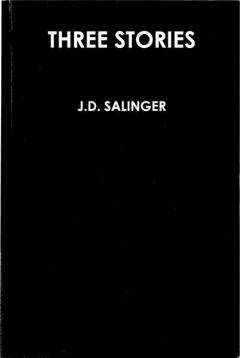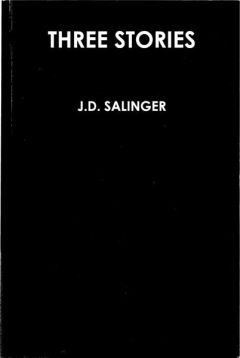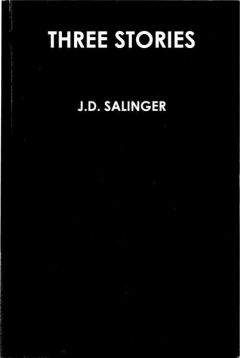Кеннет Славенски - Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь
Девушка в витрине — подобие сестры Ирмы. Обе всей душой отдаются своему весьма скромному призванию. И то, что они делают, — прекрасно, поскольку делают они это со смирением. Та же мысль проводится в «Над пропастью во ржи». Холден и Алли завороженно смотрят на ударника в эстрадном оркестре Радио-Сити. Хотя за весь вечер он вступал раз или два, делал он это с такой самоотдачей, что Холден с братом сочли его лучшим ударником на свете. Говоря устами Холдена, что этот ударник понравился бы самому Христу, Сэлинджер уподобляет такую безоглядную самоотдачу высшей духовности.
Однако центральная фигура этой сцены — не девушка н витрине и даже не сам Смит. Ключевая роль отдана в ней манекену, которого Смит сравнивает с Богом. В первый раз он увидел в нем идола из мира эмалированных ночных горшков, который, как слепой и немой свидетель, возвышается над его бездарной жизнью. Однако в момент откровения образ манекена меняется, вбирая в себя основную идею рассказа, вокруг которой вращаются все остальные его темы.
«Внезапно… вспыхнуло гигантское солнце и полетело прямо мне в переносицу со скоростью девяноста трех миллионов миль в секунду. Ослепленный, страшно перепуганный, я уперся в стекло витрины, чтобы не упасть… Когда ослепление прошло, девушки уже не было, и в витрине на благо человечеству расстилался только изысканный, сверкающий эмалью цветник санитарных принадлежностей».
Со вспышкой света Смиту внезапно открывается, что все вещи, даже низменные и банальные, исполнены красоты и смысла. Более того, именно в этом смысле угадывается присутствие Божие. Низменные подкладные судна и прочие санитарные принадлежности не просто преображаются в изысканный, сверкающий эмалью цветник. Они преображаются «на благо человечеству». Меняется и сам Смит. Он тут же пишет своим ученикам, что его предыдущие письма были отправлены им по ошибке. Затем предоставляет сестре Ирме возможность следовать своим путем. «Все мы монахини», — заключает он.
В финале рассказа вновь появляется обыкновенный, но нашедший себя в жизни Джон Смит. Из этого финала ясно, какие он извлек для себя уроки и как избавился от позерства и высокомерия. К тому же Смит не только не бросает свое искусство, но сливается с ним, что гораздо вернее передает ценность личности, нежели семнадцать автопортретов.
Из рассказа явствует, что подобно своему герою сам Сэлинджер также искал путь к просветлению. Поэтому, несмотря на множество католических метафор, рассказ не льет воду на мельницу христианской догмы. То, что испытал Джон Смит, — абсолютно в духе дзен-буддизма. В дзене такое внезапное, подобное вспышке, озарение называется «сатори». Оно индивидуально, интуитивно и противоположно рассудочному знанию. Сатори может быть пережито человеком любого вероисповедания. Неожиданный и моментальный, как молния, всполох света настигает того, чье «я» уязвлено.
«Голубой период де Домье-Смита» — юмористический рассказ, полный глубокого смысла. И тем не менее Гас Лобрано был прав в своей критике. Сэлинджер пытался вложить слишком многое в слишком малую форму. В результате ни один из смыслов не прояснен до конца и несколько тем развиваются параллельно, затеняя одна другую.
После успеха «Над пропастью во ржи» Сэлинджер надеялся, что, живя на Манхэттене, он сумеет затеряться в толпе. Его постигло глубокое разочарование. У него развился страх быть узнанным, который, вкупе с соблазнами большого города — разнообразием светских мероприятий и романтическими свиданиями, — не позволял совмещать нормальную жизнь в Нью-Йорке с сосредоточенной писательской деятельностью. У Сэлинджера созревал замысел нового романа, но для его осуществления требовалось место гораздо более тихое, чем Нью-Йорк.
Сэлинджер собрался было отправиться после 1 января но Флориду и Мексику и там всерьез приняться за новую книгу. Обстоятельства, однако, сложились так, что ему пришлось задержаться в городе до марта, причем главным препятствием к отъезду стала смена караула в «Нью-Йоркере».
Большинство нью-йоркерцев полагало, что преемником Гарольда Росса будет глава отдела прозы Гас Лобрано. Несомненно, Сэлинджер также надеялся, что бразды правления перейдут к его давнему другу. Хотя Лобрано часто выражал неудовлетворенность произведениями Сэлинджера, он всегда делал это с необходимой долей уважения. Среди редакторов журнала Сэлинджер имел репутацию «трудного» автора. Сверхчувствительный ко всякой критике и нетерпимый к правке, он очень часто раздражался и даже злился, если к его текстам придирались. Лобрано сумел найти подход к Сэлинджеру. Замечания свои он преподносил в мягкой форме, с тысячей реверансов и извинений. К тому же Лобрано никогда не пренебрегал недовольством Сэлинджера и — самое важное — знал, когда автора нужно просто оставить в покое. Учитывая все это, можно предположить, что Сэлинджер считал выгодным для себя назначение Лобрано на пост главного редактора «Нью-Йоркера».
И вдруг из тумана вырисовалась непонятная фигура Уильяма Шона. Когда в конце января было объявлено, что на место Росса посажен Шон, Сэлинджер испытал разочарование, а Лобрано — обиду. Ведь Сэлинджер никак не мог предвидеть, что Уильям Шон станет ревностным почитателем его таланта и что их мироощущения удивительным образом совпадут.
Хотя Шон еще с 1933 года занимал самые разные должности в журнале, сотрудники мало что знали о нем. Держался он обособленно, ни с кем в доверительных отношениях не состоял, и его репутация базировалась в основном на сплетнях и вымыслах. Различие между Россом и Шоном бросалось в глаза. Гарольд Росс был человеком живым и компанейским, журналом он руководил с шумной развязностью. Шон же был подчеркнуто сдержан и вежлив. Первое, что сделал Шон на посту главного редактора, — перепланировал кабинет Росса, а сам переехал в противоположный конец здания. Самолюбивой редакторской «семье» такой шаг показался угрожающим, и по издательству поползли самые невероятные слухи.
Согласно одной версии, в 1924 году Шон чуть не сделался жертвой печально известных убийц Леопольда и Лёба. Горя желанием подтвердить или опровергнуть этот слух, команда сыщиков-любителей из «Нью-Иоркера» тайно отправилась в 1965 году в Чикаго, чтобы просмотреть стенограммы суда над Леопольдом и Лёбом. Не найдя в них никакого упоминания о Шоне, разочарованные журналисты вернулись в Нью-Йорк. Задать же вопрос самому Шону никто из любопытствующих не решился. О таком никто не мог даже помыслить.
Уильям Чон, родившийся в 1907 году в Чикаго, высшего образования не получил. Фамилию он поменял, чтобы ее азиатское звучание не сбивало людей с толку. При всей своей обходительности и лояльности он был фигурой чрезвычайно эксцентричной. Его помешательство на приватности сочеталось с множеством фобий. Шон страдал клаустрофобией, смертельно боялся огня, машин, животных и высоты. Говорили, что он носит в портфеле топорик на случай, если застрянет в лифте. Казалось, с грузом подобных страхов по карьерной лестнице высоко не взберешься, однако Уильям Шон обладал таким природным талантом и интуицией, таким острым редакторским глазом, что, несмотря на застенчивость, неизменно первенствовал. По общим отзывам он был великолепным профессионалом, высоко ценившим мнения своих авторов и отстаивавшим их право на закрытость точно так же, как свое. «Если мы у себя в «Нью-Йоркере», — заявлял он, — захотим дать биографическую справку о каком-нибудь авторе, а сам он не пожелает ничего нам сообщать, мы не будем печатать этот материал». Артистическая и чуткая натура (в свое время он приехал в Нью-Йорк с мечтой о карьере композитора), Шон как ни один другой редактор подходил для Сэлинджера и как никто другой мог его понять.