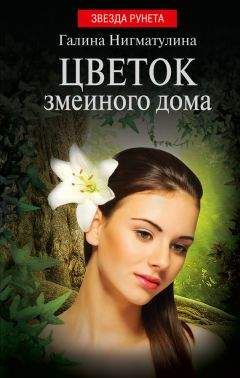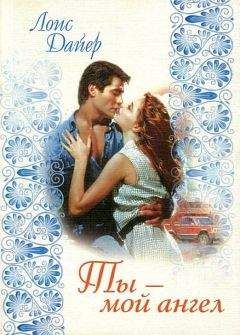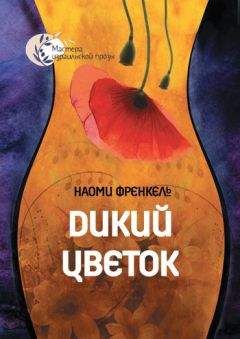Борис Маркус - Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г
Прощание с Лениным
Мама долго укутывала меня. На костюмчик надела свитер, голову обкрутила большим и колючим шарфом, Поверх шапки-ушанки, завязанной крепко под самым подбородком, нахлобучила еще большой папин башлык, длинными концами которого обернула мою шубу пару раз и туго завязала сзади узлом. Повернуться было невозможно. Я уже успел тысячу раз вспотеть, пока мама надо мной колдовала. Но надо терпеть. Ведь сегодня мы пойдем прощаться с дедушкой Лениным, с самим Владимиром Ильичем. Он умер несколько дней назад. Наш детский сад то ли поэтому, то ли по причине страшных морозов прекратил работу. А сегодня мама вдруг сказала, что наш сад пойдет прощаться с Ильичем. Только старшая и средняя группы. Мне через месяц будет целых пять. Я уже средний. Значит, и я пойду. А Ирка, которая уже ходит в первый класс школы может не гордиться этим. Занятия у них тоже отменили, а вот прощаться с Лениным они не пойдут. И пусть не задается.
До детского сада доехать на трамвае не удалось — движение где-то перекрыли. Но я даже не могу определить, где мы находимся. Сумел кое-как продуть маленький кружок во льду на оконном стекле, незаметно от мамы оттянув шарф вниз, чтобы освободить рот. А шарф от дыхания совсем около рта мокрый стал и очень холодный.
Через сразу же запотевшее стекло ничего разобрать нельзя. По негромким разговорам взрослых понял, что везут нас как-то кругом, через Красную площадь и Никольскую улицу. А Охотный совершенно перекрыт на нем каждый день стоят очереди идущих к Дому Союзов. И все время очереди увеличиваются. «Из других городов приезжают», — говорит одна тетенька рядом. «И не говорите, горе-то какое», — отзывается другая. «Народу видимо-невидимо. Даже ночами стоят, не расходятся», — вступает в разговор третья. «А сами-то Вы были?. «Какое там. Разве одной пробьешься. Наш завод, наверное завтра пойдет. Вот сейчас приеду и узнаю». «А наша фабрика не знаю, пойдет ли, нет… Но все говорят, что пойдет. Там райком все распределяет». И снова молчат. Только вздыхают.
Мы сошли с трамвая где-то на Никольской перед поворотом на Рыбный. Пошли до Третьяковских ворот, прошли к Театральному проезду и сразу же свернули во двор «Метрополя». Эти места я хорошо знаю. Ведь тут наш детский сад, мы гуляем и на Театральной площади, и в Александровском саду. Даже один раз в Кремль заходили. А на Никольской мы с мамой часто на обратном пути бывали. Тут магазинов видимо-невидимо. Но сегодня все магазины закрыты. Все дома как будто замерли. Повсюду развешаны красные флаги с черными лентами. Люди идут в одном направлении — к Третьяковскому проезду, к Лубянской площади. Все идут молча. Очень все серьезные. А мама ни на один мой вопрос не отвечает. «Молчи», — говорит. «И не открывай рот, простудишься».
В саду уже собралось много народу. Нашу группу отвела в отдельную комнату тетя Женя. Она наша воспитательница. Очень хорошая тетя. Я даже фамилию ее знаю. Она тетя Женя Разумовская. А знаю потому, что и мама моя тоже воспитательница, только в другой группе. Так она с тетей Женей нашей очень дружна.
Нас всех зачем-то пересчитали. Потом гуськом вывели во двор. Тут мы построились парами. Меня с Юлькой поставили. Она задавака, но сегодня, как и все молчит, не высовывается. Придется идти с ней.
От «Метрополя» до Дома Союзов всего ничего: только площадь Театральную перейти. Но нас несколько раз останавливали, потом вели куда-то в сторону. Сквозь узкую щель между шарфом и спущенной почти на глаза шапкой я вижу, что к Дому Союзов с разных сторон тянутся длинные черные очереди. Как большие ленты. И еще заметил, что вся площадь белая ровная и никаких трамвайных рельсов не видно. Их занесло снегом. Трамваи-то не ходят. Вот все и затоптали. И черные ленты на ослепительно белом снегу особенно выделяются. Но рассмотреть подробнее мне не дали. К нам подошел какой-то высокий военный в застегнутой под подбородком буденовке и в шинели с красными «разговорами» — с яркими полосами, пришитыми на шинели спереди наискосок. Почему они, эти полосы, называются «разговорами» не знаю, но сейчас спрашивать нельзя. Так этот самый военный повел всех нас прямо ко входу в Дом Союзов. Попросил чуть подождать и куда-то ушел. И мы все стоим, осматриваемся вокруг.
Рядом с нами большой костер. Около него двое красноармейцев приплясывают, хлопают руками, и даже хлопают себя в обхват по спинам. И пар изо рта во всю идет. Впрочем, пар у всех нас. Только плохо, что он на шарфе застревает. Даже сосульки начали образовываться. А потом к костру подошел еще один красноармеец и привел с собой рыжую лошадь. Вот так чудно: у лошади и от губ и от ресниц большие льдинки висят. И из ноздрей. И по всей морде на шерсти иней.
И у красноармейца тоже брови все, как льдинка. На усах тоже льдинки. А вдали видны еще костры и вокруг них приплясывающие люди. И над всей очередью и над другими очередями стоит пар от дыхания. Издали-то его не видно было, а тут вблизи пар, как облако над толпой. И царит тут гробовое молчание.
И вдруг я увидал совсем рядом с нами небольшой комочек. Я думал, что это камень или кусок льда. А как рассмотрел получше, то увидел, что это же ведь воробушек. Мертвый, замерзший, как камень валяется, вытянув вверх тонкие ножки. Если бы не эти ножки, то я бы и не разглядел, что это замерзшая птичка. Не выдержала мороза, бедная.
Вернулся высокий военный, сказал кому-то: «Пропустите детей», и мы по очереди вошли в подъезд. А очередь, остановившаяся, чтобы пропустить нас, не произнесла ни слова. Молча люди смотрели на нас, проходящих в подъезд. И вот мы вошли. Тут стало немного теплей. По бокам вдоль стен стоят высокие венки с красно-черными лентами. С потолка спускаются широкие черные полосы материи. Юлька заметила, что это зеркала затянуты и сказала об этом мне. Хоть какой-то прок от нее. И еще за руку держит, как будто бы я убегу. Прошли в большой зал. Тут очень трудно что-нибудь рассмотреть. Какой-то высокий постамент, весь усыпанный цветами. Около него стоят люди с красно-черными повязками. Но что там наверху я не вижу. Вон тетя Женя подняла кого-то из наших на руки, высоко подняла. Так тот, наверное, видит. А я ну ничегошеньки не вижу. А останавливаться не разрешают. Тихо так, настойчиво говорят: «Проходите, товарищи, проходите». И мы проходим. Мы, значит, тоже товарищи. Так я толком ничего и не увидел. Ладно, хоть и Юлька ничего не видала, все меня спрашивала шепотом, что там, да что там. А что я ей мог ответить.
Вышли мы из Дома Союзов прямо на Большую Дмитровку. И быстро-быстро пошли назад в сад. После помещения сразу же стало холодно. И опять этот шарф проклятый. Тетя Женя, когда мы вернулись в группу, сказала: «Вот теперь, дети, вы будете долго помнить, как прощались с Владимиром Ильичом». Ну что я буду помнить? Я ведь почти ничего не увидел. А ребята вон, перебивая друг друга, о чем-то говорят, будто видели. А у меня из головы не уходят сосульки на ресницах лошади и усах бойца. И не могу забыть окаменевшего воробышка, лежащего на окаменелой мостовой вверх лапками. Тонкими, со скрюченными коготками.