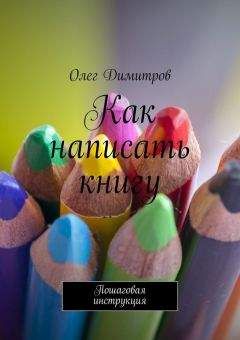Анатолий Гладилин - Улица генералов: Попытка мемуаров
Помню и другое. Седьмое марта 1963 года. Я жду в ЦДЛ, когда вернутся наши ребята. Наши ребята (смотри по списку) — на встрече Партии и Правительства с творческой интеллигенцией. Наши ребята держатся молодцом, вчера хорошо выступал Роберт… Но почему-то долго затягивается эта встреча с Партией и Правительством. Наконец в Пестрый зал входит Аксенов. Лицо белое, безжизненное. Впечатление, что никого не видит. Я молча беру Аксенова под руку, подвожу его к буфету, говорю буфетчице, чтоб налила полный фужер коньяку, и медленно вливаю в Аксенова этот коньяк. Тогда он чуть-чуть оживает и бормочет: «Толька, полный разгром. Теперь всё закроют. Всех передушат…» Далее мы сидим за столиком вместе с Эриком Неизвестным, тоже вернувшимся со встречи, и Эрик, которому после Манежа уже ничего не страшно, внятно рассказывает, что происходило на встрече с Партией и Правительством. Хрущев топал ногами на Вознесенского. Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксенову: «Вы мстите нам за своего отца!» А Вася, по его словам, отвечал Хрущеву — дескать, почему я должен мстить, мой отец вернулся из лагеря живым. А по словам Эрика, Вася стоял на трибуне совершенно растерянный и повторял: «Кто мстит? Кто мстит?»
Между прочим, для полноты картины: в те времена никто из наших ребят не умел выступать с трибуны, кроме Того, которого Аксенов сейчас хочет вычеркнуть из списка. Тот был талантлив во всем, даже в области политической демагогии.
После международного женского праздника 8 Марта советская пресса как с цепи сорвалась. В сельскохозяйственных и промышленных изданиях клеймили молодых писателей-модернистов, оторвавшихся от народа. По старым меркам, двух статей в «Литературке» хватило бы на десять лет лагерей, а «Литературка» плевалась полгода. Но ведь Хрущев был непредсказуем. И вот на собрании Союза писателей я слышу старого партийного держиморду, который чуть ли не сквозь слезы причитает: «Аксенова вся наша общественность ругает, а он по заграницам разъезжает! Как же так, товарищи?» Ушлые товарищи негодуют, но смекают, что ничего так просто в нашей стране не происходит, значит, это какой-то знак свыше — дескать, Аксенова можно кусать, но съесть нельзя. А я-то знал, что произошло на самом деле. В понедельник 9 марта Аксенов обнаружил у себя на столе заграничный паспорт и авиабилет. В последние кошмарные дни он совсем забыл, что включен в делегацию советских кинематографистов на кинофестиваль в Аргентину. Аксенов решает: была не была, кладет в чемодан пару сухарей — на случай, если его арестуют прямо в аэропорту, — и мчит в «Шереметьево». Там его радостно приветствует делегация кинематографистов. Самолет улетает. В середине дня на аксеновской квартире звонит телефон, требуют Аксенова. Кира (его первая жена), озверевшая от всех этих событий, очень нелюбезно осведомляется, кто его спрашивает. Ей еще более нелюбезно отвечают: «Из ЦК партии». — «Нет его!» — «А где он?» — «Улетел в Аргентину». Гробовая пауза. Затем истошный вопль: «Кто пус-ти-и-и-л?!»
Ну, прошляпили, накладка вышла. Зачем в этом признаваться? Сделаем вид, что так и было задумано. И игры с Аксеновым продолжались. (Впрочем, в хрущевскую оттепель со всеми нами играли. Получаешь по морде, выбрасывают из сверстанного журнала твою повесть, рассыпают набор книги, отменяют премьеру пьесы, а потом, через несколько месяцев, вдруг — звоночек с интересным предложением.) Я очень любил устный рассказ Аксенова о том, как его принимал министр культуры РСФСР. Огромный кабинет, чаёк, «коньячку не желаете?», Старший партийный товарищ вразумлял молодую смену ласково и доверительно: «Василий Палыч, твою мать, написали бы вы что-нибудь, на фуй, для нас. Пьеску о такой, блин, чистой, о такой, блин, возвышенной, на фуй, любви… У нас тут, блин, не молочные реки и не кисельные, твою мать, берега, но договорчик мигом, на фуй, подпишем. И пойдет, блин, твоя пьеска гулять по России, к этой самой матери». Все нормативные слова министра культуры Аксенов запомнил. Ненормативную лексику запомнить было невозможно, а беседа продолжалась час. Большим был мастером русского языка руководящий товарищ. Теперешним новым русским надо бы поучиться у старой партийной гвардии…
При Брежневе игры стали жестче и изощреннее. Звонит мне в Париж (а я уже отщепенец, клеветник и работаю на вражеской радиостанции) знакомый итальянский переводчик в полной панике. Он перевел аксеновский «Ожог» на итальянский. Книга готова, тираж отпечатан, а тут приехала дама из Москвы, утверждает, что она лучшая подружка Аксенова и от его имени требует пустить тираж под нож или задержать выход «Ожога» хотя бы на год. Знаешь ли ты эту даму? Я отвечаю — мол, знаю, при мне еще был их бурный роман, тут она не врет. Но мы с Аксеновым, когда он последний раз был в Париже, рассматривали все варианты, и такой тоже. Поэтому последнее слово за мной. И я говорю: «Немедленно пустить „Ожог“ в продажу. Итальянское издание романа и пресса вокруг него — залог безопасности советского автора».
Аксенова выталкивают в эмиграцию. В парижском аэропорту автора прогремевшего «Ожога» встречают пресса, кино и телевидение. Я везу аксеновское семейство на их временную парижскую квартиру и тихонько осведомляюсь у Васи, в курсе ли он «итальянского инцидента». Не в курсе. Тогда я рассказываю, добавляя от себя комментарии, типа — как же так, Вася, ведь такая у вас любовь была, а она продала тебя с потрохами! «Ну что ты хочешь, — философски замечает Аксенов, — видимо, ГБ ее поймало на чем-то и завербовало. Слабая женщина. И не таких ГБ ловило и ломало».
Аксенов заглядывает в мой текст.
— Толька, ты соображаешь, что пишешь? Хочешь, чтоб у меня был семейный скандал? Я ведь не помню, она была до Майи или одновременно с Майей.
Майя — вторая жена Аксенова. Я его успокаиваю. По моим подсчетам, она была точно до Майи. Аксенов смотрит на меня подозрительно: «А чего ты вдруг в воспоминания ударился? Наступило время мемуаров?»
Я знаю, что, по теории Аксенова, писание мемуаров — это для литератора абсолютная сдача позиций. Дальше только гроб. Я объясняю, что сейчас перейду к анализу творчества, а пока хочу рассказать о Том, с кем ты не разговариваешь, но очень дружил когда-то (как и все мы). Как Тот явился к тебе на квартиру в Вашингтоне и начал поучать — что ты имеешь право делать в эмиграции, а чего не должен делать ни в коем случае. Ты был потрясен и потом перезвонил мне в Париж и повторил его текст, и я подтвердил: «Чистой воды гэбэшная диктовка». И еще я хочу рассказать о Феликсе Кузнецове, как он, уже в другие годы, после перестройки, бросился к тебе обниматься-целоваться. А ведь Феликс Кузнецов был главный травитель авторов «Метрополя». Теперь-то выяснилось, что не ЦК и не ГБ организовали кампанию против альманаха «Метрополь». То есть они, конечно, не препятствовали травле, но инициатором всей кампании был Феликс Кузнецов, на вас он делал карьеру. Так что, Вася, пойди побегай.