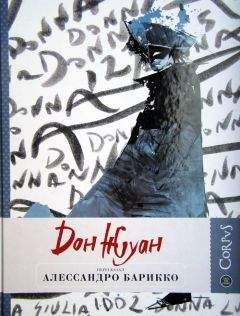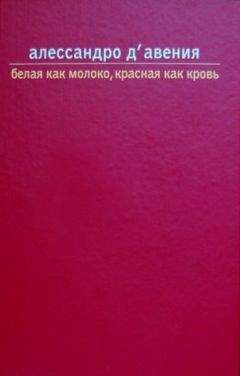В погоне за звуком - Морриконе Эннио
– Ты работал с группой почти все время ее существования, и это подарило тебе бесценный опыт, а что насчет твоих коллег?
– Им группа тоже дала очень много, думаю, каждый смог бы это подтвердить. Прежде всего опыт работы нашей группы продемонстрировал резкий контраст с той «экспериментальной» музыкой, которая была замкнута в себе и отгораживалась от слушателя, знакомой мне еще с дармштадтского лета. После провокационных семинаров Кейджа я чувствовал необходимость как-то отреагировать на услышанное, в то время как некоторые мои коллеги подхватили неопределенность музыкального письма как своего рода флаг музыкального прогресса. Я говорю о чернильных пятнах на нотной тетради – отсылки к творчеству Джексона Поллока, об использовании игральных костей для выбора нот, о загадочных схемах-кроссвордах и газетах, которые подсовывали исполнителям вместо партитуры. На самом же за всем этим «прогрессом» скрывалось простейшее дилетанство. Композитор отгораживался сложными вычислениями или, наоборот, объявлял о своей полной свободе, чтобы избежать ответственности. В ответ на это наша группа предложила свободную импровизацию, ограниченную определенными параметрами и всеми уважаемыми правилами. А кроме того, композитор становился исполнителем, что позволяло ему вступить в контакт со звуковой материей, над которой в последнее время он слишком уж часто утрачивал контроль.
– Можно сказать, вы осознали, что контролируемая и регламентированная правилами импровизация оказалась куда функциональнее, чем полностью свободная, и тем самым нашли своего рода антидот новым тенденциям…
– Иногда мы добивались куда больших результатов, чем так называемая экспериментальная музыка, основанная на неопределенных символах и условных знаках. Кстати, слово «выразительность» в те годы считалось почти ругательным: написать что-то «выразительное», что понравится публике, считалось большой слабостью композитора. Так что, учитывая контекст, наш опыт оказался скорее делом чести, актом ответственности, открывшим музыке новые возможности и спасшим нас от тупика, в который попали многие наши коллеги. Впоследствии многие исполнители и коллективы заявляли, что испытали на себе влияние нашей группы, мне приходилось слышать такие отзывы в разных частях планеты. Помню, как, оказавшись в Германии на мероприятии, где собирались группы, занимающиеся импровизацией, я был поражен одним выступлением: несколько человек, разбитых на группы и устроившихся в разных местах огромного зала, одновременно исполняли каждый свою партию, что создавало невероятный эффект, словно звуки сливались и отражались от окружающего пространства. Иногда из этого клубка можно было выхватить фразу, ноту, голос одного инструмента, но всего на секунду, затем все снова сливалось в единое целое. Эта музыка была такой странной, спонтанной и разнообразной, что я был поражен до глубины души.
Мне приходилось наблюдать, как наша группа вызывала самые разнообразные отклики, чувство согласия или протеста, но реакция была всегда, вот что важно. По этому поводу мне приходит на ум вторая часть одной композиции Алессандро Сбордони, которую исполнял римский оркестр компании RAI несколько лет назад, где как раз звучит органным пунктом си-бемоль. Разумеется, органный пункт Сбордони был обработан, выверен и не похож на ту импровизацию, однако мне он кажется явной отсылкой к нашему общему опыту, к той самой «неподвижной динамике», эффект которой создавался благодаря феномену натурального звукоряда, о котором мы уже говорили.
А вот у Эджисто Макки наш опыт впоследствии вызвал отторжение: когда я услышал его композицию «Болеро» (1988), я удивился, что оно сделано в тональной системе. От совершенно авангардного композитора, каким он всегда являлся, он вдруг совсем неожиданно вернулся к тональной музыке.
Разумеется, я не могу говорить за коллег и не знаю, как они переоценили наш опыт, что из него вынесли. Я могу говорить только о том, что для меня он имел огромное значение.
Уже в те годы я придерживался убеждения, что если экспериментировать – то уж наверняка, по полной. Так я и делал и не сожалею об этом, однако описать или пересказать подобный опыт словами почти невозможно. В этом смысле может показаться, что моя композиторская деятельность, в особенности та, которая касается кино и мира коммерческой музыки в целом, если поставить ее рядом с творчеством нашей группы и опытом, полученным в Дармштадте и в консерватории, выглядит капитуляцией, проигрышем. Но не думаю, что такая интерпретация верна на сто процентов. Мне кажется, я смог выработать такую технику письма, которая включала бы в себя множество достижений современной музыки, я способен приложить свои навыки как в тональной, так и в модальной системах. Мне всегда необходим толчок, чтобы продолжать двигаться вперед в том же направлении. Я придерживаюсь собственного пути и в киномузыке, стремясь к тому, чтобы с моей помощью современная экспериментальная музыка была переоценена и переосмыслена, и стала более доступна слушателю.
Так, шаг за шагом, благодаря множеству попыток – иные были удачны, другие не слишком – я добился той техники письма, которую называю «контролируемый, но спонтанный процесс». От сериализма и случайного сочетания звуков я постепенно пришел к собственному, личному музыкальному языку. Постепенно я отдалялся от «дерзостных новаторов», которые иной раз считали меня слишком уж резким.
Мне приходилось идти вперед, привлекая весь опыт прошлого. Ни один опыт не был пережит мною впустую, я постепенно анализировал и облекал в форму то, что знал, подстраивая материал под свои правила, в зависимости от необходимости и с учетом контекста, даже когда речь шла о «несерьезной» музыке.
Особенно меня привлекал подбор точного тембра, отражающего мои задачи. Можно сказать, я всегда шел именно в этом направлении.
Ответ на запрос эпохи: в сторону «неподвижной динамики»
– В поисках, о которых мы говорим, фундаментальную роль сыграли «Звуки для Дино», произведение, которое я написал в 1969 году. И не только потому, что оно символически ознаменовало возвращение к тому контексту, где музыка не завязана на образах и должна говорить сама за себя, но и потому, что в нем отразились все те наработки, которые накопились у меня за последние годы, все те столь дорогие мне элементы, о которых я думал до и продолжал думать и после «Звуков». Дино – это Дино Ашиола, великолепный скрипач, который работал со мной на многих фильмах, один из самых известных в Италии. Ему я и посвятил эту композицию. Ашиола мог добиться совершенно уникального звучания, он был непревзойденный исполнитель и с годами стал мне настоящим другом. Мы с ним познакомились за несколько лет до того, как он стал сотрудничать с коллективом «Quartetto Italiano». Я написал «Звуки для Дино», решив задействовать всего четыре звука: ми-бемоль, ре, до-диез и ля, полученные из транспонировки одной из серий Фрескобальди, очень для меня значимой [61].
– Многие из твоих самых знаменитых композиций, начиная с трека к фильму «Хороший, плохой, злой» и заканчивая песней для Мины, построены всего на нескольких нотах.
– В те годы я был помешан на идее задействовать в теме как можно меньше звуков: придерживаясь такой модели, можно добиться хороших мелодических результатов.
Но в «Звуках для Дино» я склонялся к другой схеме, чем в тех случаях, когда нужно было написать хорошо запоминающуюся и напевную мелодию: я выстроил все элементы композиции на четырех звуках основной серии, а благодаря магнитофонам возникал особый гармонический эффект… Но давай по порядку. Я хочу показать тебе ноты, так мы сможем все обсудить.
Видишь? Читай партитуру снизу вверх. Уже глядя на нее, сразу понимаешь, насколько она «выбивается из формы». Каждый звук длится всего секунду, а каждая фраза – тридцать секунд.
Композиция начинается введением двух коротких электронных звуков. Их производит синтезатор, установленный на тембр вибрафона и ударных (первый, затем аккорд, второй, затем интервал ми бемоль-ля, и так далее, с паузой в пять секунд). Затем, видишь, с третьей сроки появляется скрипка, которая вторит синтезатору с невероятной точностью, в то время как электронные звуки продолжают звучать в той же последовательности, четко отсчитывая время для скрипача. И в это же время магнитофон начинает записывать скрипку.