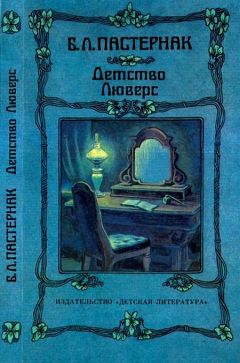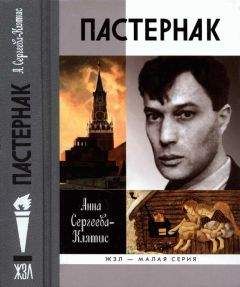Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна
Я сегодня по почте отправил тебе две тысячи в Цхалтубо, если еще понадобится через неделю, телеграфируй по городскому адресу, теперь Леня иногда бывает там и с квартирой поддерживается связь.
Ты очень избаловала знакомых нашими приемами, все очень рвутся к нам и перед каждым воскресеньем мне приходится воздвигать оборонительные загражденья, чтобы сдержать их натиск. Три воскресенья это удавалось, я принял также меры, чтобы никто не приехал в ближайшее, 10-го, но дальше это все труднее и труднее, и в следующее, 17-го, я, наверное, спущу подъемный мост.
Все у нас в идеальном порядке, во вторник посмотрю репетицию Марии Стюарт, – кажется, ее покажут в этом сезоне. Для меня это менее безразлично, чем в предшествующих случаях, это все же в прошлом, великий театр и участники, что бы о них ни говорил Борис [324], люди, избалованные судьбой, много видевшие и много сделавшие. Мне с ними очень хорошо, это среда родная, знакомая. Когда вернешься, привези обязательно с собою Нину и Ефимию Александровну [325]. Мы опять при их содействии пустим дым коромыслом, как прошлою зимой.
Очень мило с твоей стороны, что ты пишешь частые открытки Леничке, эта форма обращения к дому так задушевна и естественна и не нуждается в комментарии. Там, так сказать, я в поклонах и себя нахожу.
Ефимия Александровна послала мне из Цхалтубо поздравительную телеграмму. Я горячо благодарю ее. Покажите ей, ты и Нина, как я вспомнил о ней и ее упомянул в коротком и скупом очерке, где названо так мало людей и где так мало упоминаний.
Крепко целую тебя. Все тебе кланяются. Я рад, что Е<фимия> А<лександровна> с вами.
10 фев<раля> воскресенье 1957
Дорогая Зинуша!
Спасибо тебе большое за вчерашнее письмо (о банкетах, о красотах природы в Цхалтубо), адресованное мне. В нем так много интересных сведений, и оно так хорошо написано! Не дальше как вчера я тебе написал, что в твоих открытках Ленечке я слышу обращение ко всему дому и нахожу естественно и без напряжения заботу и мысль обо мне.
И вдруг особое твое письмо ко мне! Я прямо боялся его распечатать, думая, что кто-ниб<удь> восстановил тебя против меня (и, наверное, справедливо) и я найду в нем печаль и упреки. И вдруг, такое чудное, свободно дышащее, незаслуженно радостное содержание! Бесконечное спасибо тебе!
Я уже писал тебе, что пришли по телеграфу какие-то деньги из Тифлиса. А еще раньше я успел подсказать тебе, не воспользуешься ли ты пожеланием «Зари Востока» переиздать мои переводы и не возьмешь ли ты у них перед возвращением денег на обратную дорогу. В первый момент получения денег я решил, что они из «Зари Востока» и, следовательно, что мое предложение с доверенностью тебе отпадает. Но сегодня я подумал, не за помещенную ли в грузинском журнале [326] статью они? Хотя для статьи этих денег слишком много, этого все-таки быть не может. Кто переводил этот автобиограф<ический> очерк? Это ведь очень трудная была художественная задача. А стихи Рильке? Неужели это перевел Симон? Тогда это такая честь для меня!
Ты действительно можешь не беспокоиться о доме. Обиход так прочно создан с тобой и так глубоко заложены его основания, что и в твое отсутствие все идет как по маслу. Но ты напрасно в письме так выразилась, что хочешь нам дать отдохнуть от себя. Любовь не утомительна, от нее не надо отдыхать, и мы с Леней постоянно говорим о тебе с преданностью и благодарностью.
У меня будет что написать тебе интересного послезавтра, во вторник, когда я вернусь с репетиции Марии Стюарт во МХАТе, а сейчас ничего существенного не сообщу.
Хотя я принял все меры на сегодня, 10, чтобы никто не приезжал к нам, но неожиданно собрались люди непредупрежденные, и я был им очень рад. Приехали Jean Neuvecelle и Michel Gordey [327] со множеством роскошных книг в подарок и с Вагнеровскими пластинками Лене, напетыми в Bayreuth’e. Леня бедный не знал куда деваться от растроганности и счастья. Потом приехал Асмус. Потом, когда мы уже пообедали, Женя со своей новой женой [328] (внучкой Шпета) и Евг. Вл. с цветком и конфетами. Мне очень интересно было встретиться с Дмитрием Вячеславовичем и Мишелем Горде, очень живо и увлеченно провели время.
Я на днях напишу Нине, это моя потребность, мое большое желание. Может быть, я ей именно напишу о театре, чтобы наполнить чем-ниб<удь> интересным письмо. А пока, как ни самостоятельны Нинины и Ефимии Александровны чувства к тебе, прямые и нисколько не связанные с моим существованием, я не могу не благодарить их горячо и растроганно за сердечную ласку, которую они тебе расточают, и заботу и тепло, которыми окружают тебя. Сердечный привет Берте Яковлевне. Крепко целую тебя.
Твой Боря
Не торопись назад, не скучай, не думай о доме. Достань нот в городе и играй в номере, благо есть пианино.
13 фев<раля> 1957
Дорогая Зиночка!
Очень огорчают в получаемых письмах и телеграммах выражения твоего удивления или недовольства по поводу нашего молчания. Мы начали поздно писать тебе, числа с 6-го, после чего пишем часто. Мы не думали, что ты так скоро после отъезда начнешь беспокоиться, и начали писать не из предположения о твоей потребности в наших письмах, а из нашей собственной потребности написать тебе.
Кроме того, когда ты уехала, я напряженнейшим образом занят был коренной переработкой текста Марии Стюарт, целыми днями сидел над ней, почти не гулял и совсем не ездил в город. Опять я произвел работу, которой не только никто не требовал от меня, но которая, наоборот, еще больше отдалит меня от круга редакторов и переводчиков и их недалеких и посредственных представлений о возможном и должном.
Я уже писал тебе, что мне трудно сдерживать натиск желающих приехать на дачу, и в воскресенье 17-го у нас будут гости. Становится глупою частностью нашего существования, стеснительною и требующей много жертв, моя дружба с Борисом. Он со всеми в ссоре и в то же время главный друг дома. Не приглашать его нельзя, ради него устраиваются воскресные собрания, а приглашая его, нельзя приглашать других интересных людей. Если бы не это препятствие, мне хотелось бы и надо было пригласить уже и на это воскресенье Станицына и еще кое-кого из спектакля, как раз из играющих слабее и не так хорошо, чтобы в приятной, приподнятой беседе за столом и в многолюдстве на самые широкие темы, об искусстве вообще, освободить их от тех частных пут скованности и несвободы, которые им мешают. И этого нельзя сделать из-за Бориса, или надо позвать всех без него, скрывши от него факт встречи. Это одна из тех глупостей, которыми изобилует жизнь. В начале ее, в молодости, со станции отправления отбывают многие или все. Большинство только доезжают до полдороги с иллюзией, что путешествие совершено, и остается на промежуточной станции, того не замечая. Надо ли упрекать немногих, едущих дальше, что они неверные друзья или плохие товарищи, что и они должны были бы из чувства дружбы только нашуметь в жизни и сделать очень мало?
Вчера я с десяти утра до трех просидел во МХАТе. Тарасова [329] играет с большим благородством и изяществом. Она совершенно овладела образом Марии и им прониклась, так что представление мое о Стюарт уже от нее неотделимо. Еще лучше играет, то есть пользуется возможностями, предоставляяе мыми текстом, Степанова [330], но это еще роль, а Тарасова уже реальное лицо, уже история. Обе очень большие, великие артистки. Мы слишком легко ко всему привыкаем, слишком скоро все забываем. Хорошо играют и остальные. Хорошо скомпонованы уже две-три картины. Только две важных роли, кормилицы Кеннеди и погибающего за Марию юноши Мортимера, пока играют неудовлетворительно. Стихотворная форма заученного текста властвует над исполнителями, и они декламируют свои реплики, отвечают их риторически приподнято, как урок. Кажется, что это единственные слова, которыми они располагают, и что они их говорят не потому, что их выбрали из множества других, а потому, что в голове у них одни только эти фразы, страх сбиться в ответе и горячее желание ответить на пятерку.