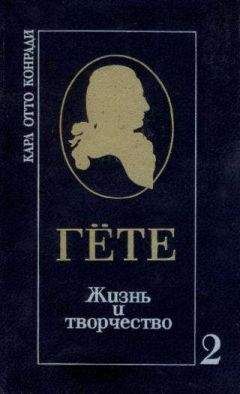Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
Опять разлука! Как в Лейпциге, как в Зезенгейме.
Такие шрамы не скоро заживают! Огромное напряжение, возникшее в отношениях между Гёте, Лоттой и Кестнером, чувствуется во всем. Во Франкфурте Гёте купил для Кестнеров обручальные кольца. Он преодолел себя, но письмо, приложенное к посылке, исполнено горечи: «Во Франкфурт вы ведь не приедете? Это мне приятно. Если бы Вы приехали, уехал бы я» (конец марта 1773 г. [XII, 138]). Удивленное непонимание происходящего звучит в строках другого письма. Иногда покинутый ищет утешение в том — Гёте так поступал всю свою жизнь, — что пытается превратить свою боль в насмешку с помощью слов, которые, впрочем, едва-едва прикрывают глубокую уязвленность. «Уйти от Лотты. Я все еще не понимаю, как это все должно выглядеть там, над облаками. Этого я, конечно, не знаю, но одно знаю точно: наш господь бог, должно быть, человек с холодным сердцем, раз оставляет Вам Лотту. Если я умру и там наверху хоть что-то будет от меня зависеть, я отниму ее у Вас. Поэтому молитесь о моей жизни и моем здоровье, ногах, животе и пр., а если умру, ублажайте мою душу жертвами и слезами и подобными вещами, иначе плохо Вам будет, Кестнер» (10 апреля 1773 г.).
И несмотря на это, не надо думать, что в Вецларе Гёте испытал испепеляющую страсть, доводящую до отчаяния. Гёте и несчастный Вертер — это все-таки не одно и то же. То, что он показал в «Вертере» — заметим, не тогда, а лишь в 1774 году, — была не просто история безответно влюбленного: роман содержит жизненную проблематику широкого охвата. Там герой, который непременно хочет следовать своему чувству и нуждается для этого в большом просторе, погибает в столкновении с самим собой и с обществом; а безнадежная любовь к Лотте, невесте Альберта, — это только часть всего синдрома, правда очень важная часть, ведь именно она приводит к катастрофе. Примечательно, однако, что увлечение Шарлоттой Буфф не получило отражения в любовной лирике, как, например, история в Зезенгейме. Но молодая женщина из стихотворения «Странник», по-матерински добрая, живущая в своей хижине деятельной жизнью, в чем-то отражала Лотту из Вецлара, на что он и обратил внимание Кестнера (15 сентября 1773 г.).
Постепенно, оставляя позади болезненные воспоминания после возвращения во Франкфурт осенью, любовь перерастала в дружбу.
Силуэт Лотты висел в комнате Гёте, еще долго курсировали письма, сначала между Франкфуртом и Вецларом, а потом и Ганновером, среди них были длинные, проникновенные послания на рождество от 25 декабря 1772 и 1773 годов.
«Франкфурт, 25 декабря 1772 г. Рождественское утро. Еще темно, милый Кестнер. Я встал, чтобы снова писать утром, при свечах. Это вызывает во мне приятные воспоминания о прошлом времени; я велел сварить себе кофе в честь праздника и буду писать Вам, пока не наступит день. Сторож на башне уже сыграл свою песню. Она и разбудила меня. Хвала тебе, Иисусе! Очень уж я люблю это время года, песни, которые теперь поются; а наступившие холода делают меня совершенно счастливым. Вчера у меня был великолепный день, я опасался за сегодняшний, но он начался хорошо, и теперь его конец не внушает мне больше страха. Вчера ночью я обещал обоим портретам моих милых написать Вам. Они витают над моей постелью, как ангелы господни. По приезде я тотчас же приколол силуэт Лотты. Пока я был в Дармштадте, внесли мою кровать, и, вот судьба, портрет Лотты оказался в изголовье. Это меня очень порадовало. Ленхен теперь отведена другая стена. Благодарю Вас, Кестнер, за очаровательный портрет […]. Сторож на башне обернулся в мою сторону, северный ветер доносит до меня звуки его трубы, словно он играет под моими окнами. Вчера, милый Кестнер, я побывал в компании нескольких милых молодых людей за городом. Веселость наша была довольно шумной, крик и смех раздавались с первой до последней минуты. Это не подобает ввиду наступающего часа. Но как только не обернут дело боги, если им захочется. На этот раз они даровали мне веселый вечер. Вина я не пил, и ничто не мешало мне воспринимать природу. Чудесный вечер! Когда мы возвращались, была уже ночь. Ты знаешь, я всегда бываю растроган, когда вижу, что солнце уже давно зашло, тьма, начиная с востока, охватывает северную и южную стороны и только на западе еще светится меркнущий круг. Видишь ли, Кестнер, среди равнин это самое прекрасное зрелище. Будучи моложе и горячей, я во время моих странствий часами следил за этим угасанием. На мосту я остановился. Сумрачный город по обеим сторонам реки, чуть светящийся горизонт, отражение в воде — это произвело на меня чарующее впечатление, за которое я ухватился обеими руками […]. Вратари возвращаются от бургомистра и бряцают ключами. Первый проблеск дня появляется над соседним домом, и колокола сзывают весь христианский люд.
Я преисполнен благоговения здесь, наверху, в моей комнате, которую я давно уже не любил так, как сейчас. Она разукрашена милыми картинами, которые приветливо желают мне доброго утра. Здесь висят семь Рафаэлевых головок, горящих живым вдохновением. Одну из них я срисовал и доволен ею, хотя она меня особенно и не радует. А вот и мои милые девочки — Лотта здесь и Ленхен тоже»… [XII, 133–135].
После «Вертера» развернулась оживленная дискуссия, поскольку Кестнеры — и Альберт, и Лотта — сочли изображение слишком похожим. После смерти Кестнера в 1800 году переписка постепенно прекратилась. В 1803 году Лотта направила Гёте письмо, содержавшее просьбу. К своему ответу, выдержанному в формально-любезном тоне, он сделал осторожную приписку: «Как приятно мне в мыслях видеть себя рядом с Вами на берегу прекрасного Лана» (23 ноября 1803 г.). Посещение Лоттой Веймара в 1816 году прошло целиком на уровне светских условностей, душевные муки юности не имели к этому уже никакого отношения. Томас Манн в романе «Лотта в Веймаре» поэтически изобразил эту позднюю встречу, обогатив ее всеми оттенками обаяния как мастер изысканного искусства намека и истолкования.
В сообщениях Хеннингсу Кестнер наметил весьма примечательный портрет Гёте времени Вецлара. Своеволие и терпимость, необычно развитое воображение и чуждая обрядовости религиозность, поиски жизненных принципов и равнодушие к людскому мнению — все это запечатлелось в памяти наблюдавшего как признаки «многослойного», еще не сформировавшегося окончательно человека, которому было нелегко самому и с которым было трудно другим. «Безудержно веселым» и «меланхолическим» случалось его видеть Кестнеру. Здесь прозвучало слово, получившее в наши дни далеко идущее толкование: меланхолия есть характерное психическое самочувствие буржуазии, активность которой ограничена различными структурами политической власти. Не будет большой ошибкой, если приступы меланхолии молодого Гёте мы поймем как реакцию на препятствия на пути его стремления к деятельности, предвестник сомнений в том, что когда-нибудь он сможет активно воздействовать на окружающую жизнь и осуществить себя как личность, о чем он мечтал. С «Франкфуртскими учеными известиями» дело тоже обстояло не лучшим образом. Уже в конце 1772 года предприятие молодых людей, готовых к любому риску, полностью провалилось: им не удалось привлечь к нему публику. Уверенно, но все же с оттенком разочарования звучит «Послесловие», написанное Гёте и содержащее признание, что, видимо, необычный стиль рецензий сделал их малопонятными для некоторых читателей.