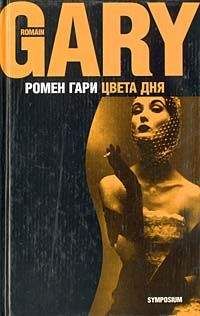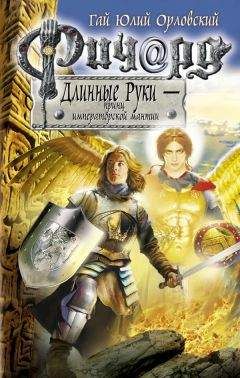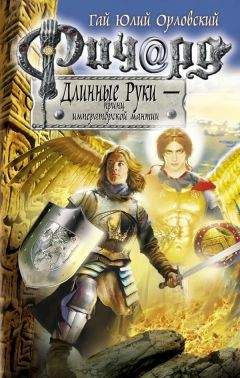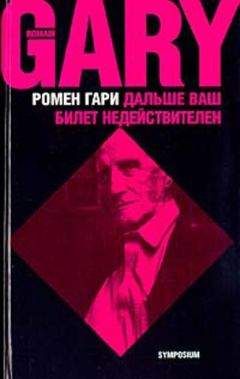Ромен Гари - Обещание на заре
Иногда я закуривал сигару и недоуменно пялился в потолок, ломая голову, как очутился здесь, вместо того чтобы выписывать своим самолетом героические арабески в небе славы. В тех арабесках, которые мне приходилось выписывать тут, не было ничего героического, а слава, которую я снискал в заведении под конец своего марафона, была вовсе не та, что дает возможность после кончины опочить в Пантеоне. Да, боги наверняка ликовали. Их нравоучительности и назидательности тут было чем поживиться. Попирая ногами мою спину, они довольно склонялись над возжелавшей похитить у них горнее пламя человеческой рукой, в которую они подсунули жалкий комок земной грязи. Их грубый хохот порой достигал моих ушей, но не знаю, они ли это вовсю веселились или солдаты в общем зале. Мне было все равно. Я еще не был побежден.
Глава XXXIII
Само Провидение захотело освободить меня от каторжных работ, устроив неожиданную встречу с одним товарищем, ожидавшим своей очереди в санитарном пункте при заведении. Он мне сообщил, что серьезная опасность для меня уже миновала и что подполковник Амель, командир нашего авиаотряда, не только отказался сообщить о моем исчезновении, но и упорно, вопреки всякой очевидности утверждал, что к попытке угона самолета я не мог иметь никакого отношения по той превосходной причине, что никогда не прилетал в Северную Африку на борту его машин. Благодаря этому свидетельству, за которое я выражаю здесь этому французу свою благодарность, меня не стали объявлять дезертиром, перестали разыскивать и не побеспокоили мою мать. Тем не менее этот новый поворот событий, весьма благоприятный сам по себе, воспрещал мне появляться на поверхности и обрекал на подполье. Поскольку я был без гроша, оставив все, что имел, в руках мамаши Зубиды, то занял у своего приятеля денег на автобус до Касы, где рассчитывал пробраться на борт какого-нибудь отплывающего судна.
Все же я не мог смириться с тем, что покину Мекнес, не заглянув на авиационную базу. Вы наверняка уже заметили, что я так просто не расстаюсь с тем, что мне дорого, а мысль бросить в Африке свою кожаную куртку была мне нестерпима. Никогда я в ней так не нуждался, как в тот момент. Она была привычной защитной оболочкой, броней, дававшей мне ощущение безопасности и неуязвимости, и, придавая чуть угрожающий, решительный и даже немного опасный вид, отбивала охоту связываться со мной и в итоге позволяла оставаться незамеченным. Однако мне уже не суждено было ее увидеть. Прибыв в расположение части, я обнаружил в комнате, которую занимал, только пустой гвоздь: куртка исчезла.
Я сел на койку и заплакал. Не знаю, сколько времени я плакал, глядя на пустой гвоздь. Теперь у меня точно отняли все.
Наконец я заснул в состоянии такого физического и нервного изнеможения, что проспал кряду шестнадцать часов и проснулся в той же позе, в какой упал, — поперек кровати и с фуражкой на глазах. Я принял холодный душ и вышел из лагеря в поисках автобуса до Касы. На дороге меня поджидал приятный сюрприз: я обнаружил там бродячего торговца, предлагавшего помимо других лакомств соленые огурцы в банках. Наконец-то я получил доказательство, что охранительная сила любви все еще меня не покинула. Я сел на обочине и умял полдюжины огурцов на завтрак. Почувствовал себя лучше. Посидел какое-то время на солнышке, разрываясь между желанием продолжить дегустацию и чувством, что в трагических обстоятельствах, которые переживала Франция, надо проявить стоицизм и воздержанность. Мне было нелегко расстаться с торговцем и его банками, я даже смутно размечтался, нет ли у того дочки на выданье. Я вполне представлял себе, как сам торгую солеными огурцами рядом с любящей, преданной подругой и трудолюбивым, признательным тестем. На меня накатили такая нерешительность и чувство одиночества, что я чуть было не упустил автобус на Касу. Все же я остановил его, ощутив прилив энергии, и, прихватив с собой изрядный запас завернутых в газету огурцов, сел в автобус уже не один, а прижимая к сердцу верных друзей. Любопытно, до чего живуч ребенок во взрослом.
Я высадился в Касабланке на площади Франции, где почти сразу же встретил двух выпускников летной школы, младших офицеров Форсана и Далиго, ищущих, как и я, какого-нибудь средства для побега в Англию. Мы решили объединить наши усилия и провели день, болтаясь по городу. Доступ в порт охранялся жандармами, а на улицах не было и следа польских мундиров: последний английский военный транспорт, должно быть, уже давно ушел. Около одиннадцати вечера мы в унынии остановились под газовым фонарем. Я слабел. Говорил себе, что и в самом деле сделал все, что смог, дескать на нет и суда нет. И еще я чувствовал, что где-то что-то не сошлось. Проснувшийся во мне фатализм азиатской степи стал нашептывать отравленные слова. Либо судьба существует и все карты в ее руках, либо же нет ничего, и тогда все равно, можно спокойно лежать в уголке. Если некая светлая и справедливая сила действительно заботится обо мне, ну что ж, ей остается лишь как-нибудь проявить себя. Мать беспрестанно твердила мне о победах и лаврах, которые меня ждут, в общем-то, давала некоторые обещания — так пусть сейчас сама и выпутывается.
Не знаю, как ей это удалось, но я вдруг увидел идущего прямо на нас и взявшегося, как мне показалось, ниоткуда бравого польского капрала. Мы бросились к нему на шею: это был первый капрал, которого мне довелось целовать. Он нам сообщил, что британское грузовое судно «Оукрест», перевозящее польский воинский контингент из Северной Африки, поднимет якорь в полночь. Он добавил, что сошел на берег купить какой-нибудь провизии в придачу к пайку. По крайней мере он сам так считал, но я-то знал, какая сила согнала его с корабля и привела к газовому фонарю, освещавшему нашу меланхолию. Видимо, артистический нрав моей матери, постоянно и порой столь трагически побуждавший ее сочинять наше будущее по канонам назидательной литературы, точно так же проявлялся и во мне, и я, еще не покорившись искусству как неизбежности, упрямо искал вокруг себя, в самой жизни, какой-нибудь творческий порыв, стремящийся поудачнее устроить нашу судьбу.
Так что капрал оказался как нельзя кстати. Форсан позаимствовал у него китель, Далиго фуражку; что касается меня, то я попросту остался в рубашке и зычным голосом отдавал своим товарищам приказы по-польски. Мы без всякого труда прошли через жандармский кордон, охранявший ворота в порт, и по сходням поднялись на борт, не без помощи, надо сказать, двух польских дежурных офицеров, которым я объяснил наше положение в нескольких драматических и ясно выраженных на прекрасном языке Мицкевича словах: