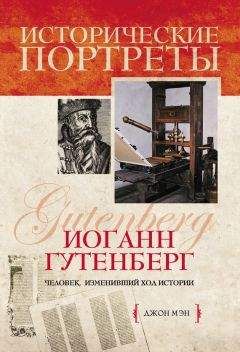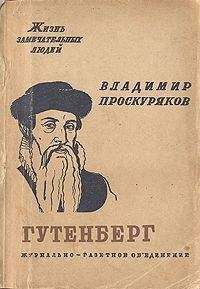Наталия Варбанец - Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе
Гутенберг политиком не был. Его деятельность шла от других основ, которые в 1956 г. сформулировал В. Шмидт, говоря о «профане» (Laie), осознающем себя как «самоответственное существо» и стремящемся «найти свой путь к богу в пределах своего мирского бытия», а тем самым — к первому источнику познания этого пути — к «Священному писанию», к Книге. Но роль изобретателя книгопечатания не была пассивной: он был сеятелем «божьего слова», просветителем, и вряд ли иначе сознавал свою миссию. И по существу процесса и по его противоречивости предшествующий Реформации XVI в. период сходен с подготовившим идеологическую базу французской буржуазной революции «веком Просвещения». Та же вера в действенность книжного слова у просветителей, та же тяга к нему у просвещаемых. И та же посылка, исходная для всякого просветительства, — свобода каждого человека следовать доброй своей природе, а не происходящим от непросвещенности и ложного знания низменным страстям. Разница в том, что в средневековой идеологической структуре просвещение и эмансипация человеческой мысли и личности не отрицали христианскую идеологию, а росли изнутри нее, роль знания светского была разве что вспомогательной. Борьба шла за ликвидацию монополии церкви не вообще на чтение и письмо — она вряд ли когда существовала, — борьба шла за ликвидацию ее монополии на духовное знание, на арбитраж в вопросах веры, совести, «божьей воли», а значит — за право всех мирян на чтение, на познание «Священного писания». Эту эмансипацию от власти церковного авторитета для XII–XIV вв. как религиозное просвещение обозначил в 1870 г. X. Ройтер. Однако взятый им абстрактно гуманитарный угол зрения позволил увидеть лишь интеллектуальную сторону мистического просвещения и просветительства. Их роль как социального фактора предреформационной эпохи, их преломление в антифеодальных народных движениях и путь к ним остались для него скрытыми. Лишь после исторических работ Маркса и особенно Энгельса и накопленного затем (в частности, советской наукой) более детального знания средневековой культуры стало возможным увидеть общие корни, общность основного мировоззренческого принципа и реальную связь этих на первый взгляд разнопланных явлений: поскольку революции в Средние века происходили в религиозном облачении, то и их идеологическое обоснование, составляющее суть всякого предреволюционного Просвещения, могло иметь лишь религиозное содержание.
Гутенберг вступил в строительство «церкви духовной» еще на гребне революционной волны. Как это бывает с людьми большого масштаба, он перешагнул через свое патрицианство в лагерь «простых» и, судя по «Сивиллиной книге», воинствующих за освобождение своего «Иерусалима» (в Германии символического, без привязки к конкретному месту). Это, однако, не означало абсолютной, а лишь обусловленную антицерковность. Обусловленную и тем, что религиозное Просвещение (как и Просвещение XVIII в.) предполагало возможность духовного переворота в каждом человеке. Обусловленную и ситуационно (тоже как просветители XVIII в.): без опоры на тех или иных церковных функционеров и на узаконенные формы существования (не было ли устройство при монастыре св. Арбогаста попыткой узаконить страсбургское братство?) массовая просветительская деятельность (а массовость ее — в отличие от XVIII в. — была заложена в идее всеобщего «человеческого спасения») требовала не только от просветителей, но и от просвещаемых ежемоментной готовности к безвестному и оклеветанному мученичеству. Даже Ян Гус до последнего доказывал, что его учение церковному не противоречит. Гутенберг был из «бессловесных». Его миссия «добрых дел» была молчаливой: служить просвещению «христианского человечества», начиная со своего народа, путем множественного и удешевленного распространения источников религиозного познания, сперва на базе голландского способа печати, ограниченные возможности коего толкнули его изобретать иной, универсальный, единственно пригодный для воплощения главного источника «человеческого спасения» — Библии, а после изобретения — учить новому «способу писать» других людей для тех же целей. Ему опора на церковные инстанции была тем нужней, что преждевременный перерыв труда означал бы крушение главного замысла. Благодаря общим для всех направлений религиозной жизни первоисточникам веры, это было возможно и не кривя душой. И Гутенберг лишь в той степени служил своим изобретением интересам церкви, в какой они совпадали с интересами «всего христианского человечества» и «человеческого спасения», с его просветительной миссией. Ни одно из его изданий этой миссии не противоречит. Ни противотурецкие листовки, буллы, индульгенции, ибо объединение «христианского человечества» против мусульманского нашествия было не только «церковной политикой», а для попавших под турецкое иго или под близкую его угрозу народов — насущной освободительной задачей: оно отвечало и крестово-походному хилиазму народного мистицизма. Ни латинские библейские тексты, для мистического просветительства программные, ибо, кроме популяризации духовного знания, оно имело целью дать доступ к первоисточникам религиозной истины (отсюда интерес гуситов к еврейскому тексту Библии, коим, быть может, объяснимы сделанные Вальдфогелем Кадеруссу еврейские алфавиты, не обязательно со знанием языка). Само достойное воплощение «Книги книг» было актом высокого благочестия. Каждая из Библий Гутенберга строилась как готический собор, в том самозабвенно благочестивом порыве, которым создавался Сен-Дени и многие из начинаний готической эпохи. Но для мистицизма, в принципе отрицательного к пышности богослужения, Библия была несравнимо больше, чем храм: это было Слово, которым бог — прямо ли, притчами ли или символами — возвещал о себе и о своей воле каждому человеку и в сумме отдельных людей, в их соборности — человечеству. Каждому надлежало ее знать, размышлять над нею, созерцать чрез нее величие божье и пр. Поиски наиболее совершенного воплощения составляющих слово знаков получат новый смысл, если помнить, что для Гутенберга Библия была божьим словом: в то время пропорциональность и равномерность представлялись божественным явлением (можно вспомнить колофон «Католикона», а также названия трактатов, позднее и шрифтовых, — De divina proportione[17]. И то же относится к служебной Псалтыри. Вряд ли случайно, что он начал именно Псалтырь и придал ей всю мыслимую красоту. Ибо Псалтырь была самой общепонятной, равно признанной — от еретического до церковного обихода — частью литургии, личным обращением к богу каждого в общем хоре всех. Не случайно пение псалмов — уже на своем языке — стало как бы Марсельезой революций в следующие столетия: начиная от первого псалма, в них было противопоставление личной совести и права личной изысканности авторитету утративших духовный смысл церковных институтов. Для народных движений Псалтырь была тем важней, что Давид был царем из пастухов.