Ромен Гари - Ночь будет спокойной
Ф. Б. Счастье как душевный покой тебе знакомо? Спокойствие духа?
Р. Г. Спокойствие духа — мне это совсем неинтересно; безмятежность, равнодушие, единение со вселенной — я не представляю, что это может дать человеку, который всегда любил здесь и сейчас. Но это очень хорошо помогает при стычках между автомобилистами, при вооруженных нападениях и полицейских грубостях, лучше увлечься дзен, чем заниматься карате. Спокойствие, знаешь ли… Я полностью успокоюсь, когда умру, для того оно и задумано… В моей эскадрилье был пилот, Бордье. Надевая перчатки перед тем, как сесть в самолет, он смотрел на небо, на звезды, затем с удовлетворением произносил: «Ночь будет спокойной». Возвращались всякий раз потрепанные, потеряв целые экипажи, но он, очень довольный, всегда повторял: «Ночь будет спокойной», и его тонкие усики шевелились. А потом он не вернулся, он тоже… Только оранжевый шар вспыхнул в небе… По-моему, он был как раз тем человеком, кто мечтал о спокойствии… Со мной такое случается, конечно, случается…
Ф. Б. Почему ты никогда не создаешь романов из своих репортажей?
Р. Г. Потому что я их уже прожил. Я могу изложить на бумаге пережитый опыт, описать прожитую историю, как я сделал это в «Обещании на рассвете» или «Белой собаке», но я не могу сделать из этого роман, потому что реальность и правда моего уже «отыгранного» опыта ограничивают, сужают мое воображение. В этом и состоит различие между художественным вымыслом и ложью: различие между подлинным изобретательством и изворотливостью, которая искажает и фальсифицирует действительность… Когда я начинаю роман, я не знаю ни откуда я отправляюсь, ни куда я иду, я закрываю глаза и диктую, целиком отдаваясь чему-то, чья природа мне неизвестна. Когда я принимаюсь жить иной жизнью, жизнью другого, как только я начинаю говорить, творчество начинается с прожитого движения фразы, и это движение, этот поток вдруг увлекает меня в XVIII век или заставляет влезть в шкуру французского посла в Риме, с которым я никогда не был знаком, это происходит благодаря игре мысленных ассоциаций, словам, ритму фраз, которые дают рождение роману… И потом, не мешало бы все же когда-нибудь покончить с шуткой о том, что «правдивый» роман только тот, который о пережитом… Самые лучшие описания чумы мы находим в «Дневнике чумного года» Дефо, который никогда не видел эпидемии чумы. Для художника реальное никогда не будет правдой, жизнь — живой. Лучше знать пейзажи, которые хочется описать: это обычно позволяет отказаться от такого намерения. То, что подразумевают под «захватывающим реализмом», это острое ощущение реальности, но этого можно достичь также, заставив беседовать двух призраков. Реализм — это всего лишь техника на службе у изобретательности. Самые реалистичные писатели всего лишь контрабандисты ирреального. Реализм — это убедительная инсценировка мира; это прием, еще одно изобретение, которое скрывает другое, настоящее, то, которое должно пройти незамеченным под страхом художественного провала… Для автора художественного вымысла реализм заключается в том, чтобы не попасться.
Ф. Б. Около миллиарда человек сегодня представлены в литературе писателями и художниками, которые проповедуют — либо вынуждены проповедовать — противоположные идеи…
Р. Г. Это у них пройдет. Иначе говоря, если коммунизм терпит неудачу в своей литературной эпопее, то это не из-за социалистического реализма: это потому, что он не нашел еще свои великие эпические таланты. Когда-нибудь коммунистический мир найдет свой эпический роман — просто им надо дать время забыть…
Ф. Б. Вот это очень крепко сказано.
Р. Г. …Так что, как романист, я пишу, чтобы узнать то, чего я не знаю, чтобы стать тем, кем я не был, пережить опыт, жизнь, которые в реальности от меня ускользают. Но когда я уже пережил репортаж, сознательно собирать эти уже созданные, прожитые детали, выстраивая их заново уже в другом порядке, заботясь об искусстве… в этом я вижу жульничество и подделку, использование объедков. Роман — это не плагиат реальности. У всего этого вкус уже сделанного и уже виденного, а я не могу пережить роман, то есть написать его, подогрев вчерашнее блюдо. А жаль, потому что опыт иногда бывает просто удивительным…
Ф. Б. Ты можешь привести пример?
Р. Г. Сколько угодно… Вот хотя бы репортаж, который я сделал для «Франс-Суар» на острове Маврикий и который я так и не опубликовал, потому что я его полностью запорол. Но зато я до самой последней минуты, вплоть до посадки в самолет, переживал удивительный опыт, который не был интересен газете, так как раскрывал мои взаимоотношения с самим собой… Остров Маврикий — это типичный «Клаб-Мед», даже там, где его нет, все тот же «тропический рай», от Карибского моря до Таити, смесь негров, индийцев, китайцев и кокосовых пальм. Кораллы, изумрудное море, белые пески — в общем, чартерные рейсы. Я провел две недели в поисках материала о мире, скрывающемся за всем этим, но кроме продавщиц в универмаге, зарабатывающих семь тысяч старых франков[99] в месяц, полный провал, никакого способа проникнуть внутрь. А потом… это случилось накануне моего отъезда. Я жил среди всего самого лучшего, что там было: бунгало в лунном свете, обворожительные стюардессы с транзитных рейсов, островные романы как в кино, вся эта шоколадная экзотика. В конце аллеи, которая вела к моему бунгало, стояли такси для клиентов отеля. Накануне отъезда я оставляю машину на стоянке, направляюсь к своему бунгало и вижу, как в темноте в мою сторону движется какая-то фигура. Это был один из водителей, тучный индиец, с ляжками — как два огромных мешка с дерьмом, поразительно, наверняка он был местной достопримечательностью. Он спрашивает, не хочу ли я девицу, «которая делает все». Я отвечаю, что нет. «Есть одна шестнадцатилетняя», — говорит он шепотом. В тропиках все предложения такого рода — это всегда четырнадцать или шестнадцать лет, даже когда им под тридцать, потому что поставщики знают: романтическая экзотика, она у белого в голове, он смотрит не глазами, а своими фантазмами. Один мой приятель сожительствовал на Таити с настоящей ходячей развалиной, потасканной до невозможности, и он разве что не объяснял мне, что если у дамочки нет зубов, то это потому, что они у нее еще не выросли. Таксисту я сказал — нет, спасибо. И только я собрался пройти, как таксист бросает мне: «У меня и десятилетняя есть. Девочка десяти лет, но отлично дрессированная, настоящая обезьянка, a little monkey». Я останавливаюсь. Это делалось интересным. На следующий день я улетал, полностью запоров свой репортаж, и вот наконец я коснулся дна местного колорита. Я сказал: да, мне интересно. Можно взглянуть? Он показал мне свои зубы в улыбке «лунный свет». Гордый, понимаешь ли, тем, как хорошо он знает людей. Да, можно взглянуть, можно все, ха-ха-ха! Но надо идти к родителям, и вот он уже кладет руку мне на плечо, фамильярно, мол, наш браток. Десять лет, подумал я, конечно, в «Самаритен» можно найти все[100], и тем не менее… Он привел меня в один из дощатых домов старинного «креольского» типа, которые напоминают дачи заслуженных советских писателей. Входим. Меня встречает семья, где перемешалась кровь негров, белых и индийцев, и, вероятно, это были не отец и не мать — но дети действительно были детьми. Старшая выглядела лет на шестнадцать, а младшей было лет двенадцать, если не меньше. Они дали мне потрогать ее грудь, чтобы убедиться… Впрочем, что я говорю «грудь»… ее там не было. Она еще не выросла. Я знал, что ничего не смогу вытянуть из девочки — она была еще слишком мала, чтобы о чем бы то ни было рассказать, поэтому я объявил, что беру обеих: старшую и младшую. Я заплатил вперед, и водитель привез нас троих в бунгало. Мне повезло. Мне действительно было чем полакомиться, потому что как только я объяснил старшей, кто я такой и зачем я их сюда привез, она как заговорила, так и не умолкала до трех часов ночи. Младшую усадили в угол с приемником, и я начал слушать. Разумеется, родители вовсе не были родителями, девочки не были сестрами, она объяснила, что клиентам нравится думать, что они сестры и занимаются этим друг с дружкой, но для меня тут не было ничего нового. Проституция в тропиках отличается от европейской тем, что у нас женщины ею занимаются, чтобы улучшить качество жизни, купить машину, квартиру, а там — чтобы выжить. Но что потрясает, ужасает — это замкнутость и невежество. Пример: говорю малышке, что я француз. Француз? Она радостно улыбается. Так вы можете достать для меня визу в… Китай? Да, старик. В Китай. Франция все еще считается чем-то великим и всемогущим, на острове Маврикий мы можем все, значит… даже визу в Китай. Тут я и впал в отчаяние. Ибо эта девочка оказалась маоисткой, хотя политикой тут даже и не пахло. Точнее, это было политической фантастикой в том смысле, что она воображала, будто в Китае можно жить, не работая, и получать деньги от государства, чтобы быть счастливой. Она в подробностях мне все это объяснила, с мечтательным видом сидя у меня в бунгало, в то время как ее двенадцатилетняя «сестра» слушала транзисторный радиоприемник, после того как в течение целого года обслуживала в среднем от трех до четырех южноафриканцев и австралийцев за вечер. Потрясло меня не ее представление о маоистском Китае как о дискотеке, где Мао бесплатно раздает всякие побрякушки и богатства американского общества. Невероятной, пронзительной была мечта — и потребность знать. И вот тут я вошел в Роман, вот почему я и рассказываю тебе это — в связи с персонажем, который создается в движении, неудержимо, из себя самого. Ибо в присутствии этой девочки, этой мечты, этого крика души, я, чтобы ответить на эти вопросы, на три часа перевоплотился в маоиста. Я постарался нарисовать для нее портрет Мао настолько близким к «Красной книжечке»[101], насколько это было возможно. В течение трех часов я позволял ей верить, пить и есть. Понимаешь, у нас можно говорить о десяти миллионах казненных Сталиным, о Праге, об идеологическом бреде — протестовать. Там это не имеет смысла. Это становится полным идиотизмом. На нулевом уровне это что-то нездешнее, происходящее где-то далеко, в чужих краях, на луне. Передо мной сидела девочка с большой мечтой в глазах, и ничего другого, никакой другой надежды, никакой возможности вырваться, полная беспомощность. Разрушить эту мечту было еще хуже, чем взять двух «сестер» и «давай, ты делай это, а ты это». Так что видел бы ты эту картину: в два часа ночи в бунгало за тридцать долларов этакий мещанин во дворянстве поет хвалебные оды Мао и маоизму; и я проложил пресловутое русское метро от Москвы до Пекина, метро, знаешь ли, поезд, который идет под землей… И вот таким образом к трем или четырем часам утра я был приглашен поприсутствовать на следующий день на собрании «маоистской ячейки» в каких-то зарослях. Разумеется, я знал, что на острове Маврикий есть маоистская мини-группа, да, впрочем, и на марке острова фигурирует портрет Ленина. Ленина ставят там на марки, чтобы не пришлось его ставить куда-нибудь еще. Но это собрание «маоистской ячейки» я никогда не забуду. На острове Маврикий в горах есть настоящие дебри, с мартышками и маленькими черными поросятами, которые по-прежнему выглядят так, словно явились с волшебно-идиллических островов, которые столько сделали для обоев, ширм и ковров XVIII века. И в этих джунглях стоят миниатюрные буддистские храмы, с крышами как у пагод и разноцветными гипсовыми животными типа три тысячи лет до У. Д. — до Уолта Диснея. Внутри одного из таких храмчиков и ждали меня младенцы мао — семь-восемь подростков, девочки и мальчики. У них там есть автомобильное масло, «Калтекс», сделанное в Техасе, название которого пишется на фоне красной звезды. Ребята соскоблили слово «Калтекс» так, что осталась одна звезда. Я устроился на алтаре, под звездой, а они сели на корточки вокруг меня, и в течение двух часов я отвечал на их вопросы о Мао, старался как мог. Я им дал возможность надеяться. Без цинизма, без обмана, без иронии. Попроси они меня спеть второй акт «Тоски» — я бы сделал и это. Впрочем, они не понимали ни слова из того, что я говорил, они не знали основ политграмоты. Они слушали музыку — и больше ничего. Мелодию надежды. Пять девушек и два или три парня, африкано-индусская мешанина с небольшой примесью китайского — крупное достижение европейского колониализма, этнический тупик, контрацепция, о которой забыли. Вопросы наивные до слез… Они хотели знать, есть ли у Мао рыболовецкие шхуны, так ли китайцы богаты, как лавочники у них на острове Маврикий, а один из парней, лет четырнадцати — пятнадцати, сказал, что у Мао должно быть много работы, потому что все китайцы — подлецы. Китайцы на острове Маврикий, как и на Таити, держат в руках торговлю, так что… Для парнишки они подлецы. В Индийском океане и южной части Тихого они — это прежние евреи, конкуренцию им составляют только индийцы в Африке… Этот мальчуган взял Мао у китайцев без китайцев, как Запад взял Иисуса у евреев без евреев. Есть в человеке ужасная часть, которая не хочет верить в человека из-за братства, ибо «если ты такой же, как я, ты ничто», и как раз благодаря этому и происходит надувательство: так что Перона можно привезти в Аргентину и выставить его труп на всеобщее обозрение, это ровным счетом ничего не меняет, миф о Пероне остается действенным… И когда я тебе расскажу эпилог, которым я увенчал это дело, ты увидишь, что жизнь, в ее тамошнем проявлении, заставила меня прожить на острове Маврикий главу из «Повинной головы», что роман переплетается с жизнью, и моя жизнь — это повествование то о пережитом, то о воображаемом, и что если американская газета назвала меня «коллекционером душ», то лишь потому, что я постоянно, всеми фибрами своей души стремлюсь собрать максимум многообразных «я». Помнишь таксиста, который предложил мне десятилетнюю девочку с семьей в придачу? Я купил кусок фанеры и очень тонкие гвоздики длиной в полтора сантиметра. Вечером я вышел на аллею такси, пока водители мирно болтали на кухнях отеля, положил дощечку на сиденье мерзавца, остриями гвоздей вверх, к небу, к Богу и справедливости, туда, где нет ни того ни другого. Затем я вернулся к себе в бунгало, в ста метрах оттуда, лег, оставив дверь приоткрытой, и стал ждать счастья. Когда мешок с дерьмом всем своим весом рухнул на гвозди, он издал такой вопль, что… в общем, я не могу тебе описать, для меня это было успокоением разума, на меня снизошла благодать, безмятежность, наконец, некое подобие самой святости. Я бы с удовольствием изобразил этот вопль здесь, чтобы ты смог разделить мои чувства, по-братски, но это неповторимо: нужно, чтобы две дюжины гвоздей вошли по самую шляпку в твой зад, чтобы вложить, как сделал этот ублюдок, всю душу в свой крик… Жаль, я не записал его на пленку, у меня был диктофон; но я об этом не подумал, и теперь у меня осталось лишь воспоминание, и оно стирается, потому что я не обладаю музыкальной памятью…
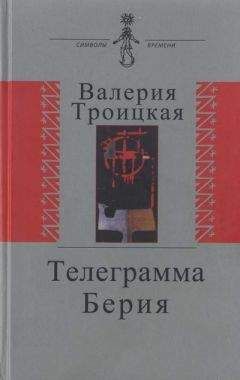
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/uploads/posts/books/272784/272784.jpg)


