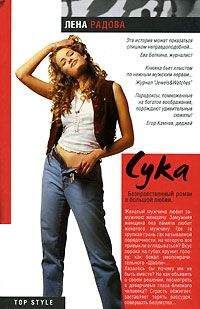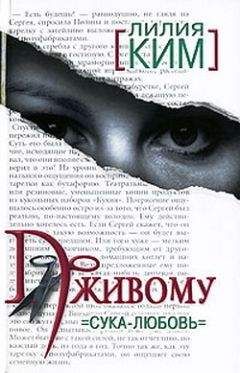Алексей Суворин - Дневник А.С. Суворина
Эти дни читаю «Идиота» Достоевского. Никогда я этого романа не читал. Странный писатель! Мне кажется, что все его люди — от его нутра, его души и воображения. Таких людей он не видал, да таких, может, нет и не было. Были только, может, подобия им. Какую-то преступную душу, мрачную, таинственную, он изображает. Есть ли это русская душа? Много увлекательных страниц, много поистине драматических сцен. Все его романы в сценах. Он любит разговоры, тянет их бесконечно, и многие очень занимательны. Он говорил мне, когда я у него спросил однажды, почему он не писал драм? — «Белинский говорил, что драматический талант складывается сам собой, с молоду. Вот я и думал, что если я начал с романов и в них силен, то я не драматург!».
22 сентября.
Письмо от Плющика по поводу того, что я восстал против назначения роли Дуни в «Преступлении и Наказании» г-же Погодиной. Дуня — красавица, а Погодина — замухрышка с носовым голосом. Я отвечал ему телеграммою: «Не режиссер, а вы обязаны были сообщить мне распределение ролей, даже посоветоваться со мной, как это делали решительно все авторы на императорских сценах. Зачем вы на стрелочника сваливаете? Относительно своего авторства вы очень ошибаетесь. Между вами и автором колоссальная разница. В некоторой степени вашим объяснением я удовлетворен. Далее делайте, как найдете, лучшим. В ваши права я больше не вступаюсь. Суворин».
* * *…Случай графа Л. Н. Толстого и г. Маркса, издателя «Нивы». — На руку ли это «марксистам?» Г. Маркс — капиталист, граф Толстой — рабочий. Граф Толстой продал за тысячу рублей с печатного листа «Ниве» первое издание своей повести «Воскресенье». Он прямо и категорически заявил г. Марксу, что продает только первое издание, или, вернее первенство его печатания, что после появления в «Ниве» частей этой повести, все другие издания имеют право пользоваться «Воскресеньем», как своею собственностью, ибо сейчас же повесть эта в каждом отрывке и в целом делается общею собственностью. Надо знать, что первоначально цена повести была объявлена в 1500 руб. за печатный лист, причем граф Толстой, из целей чисто благотворительных, готов было сделать оговорку, что продает первое печатание своей повести вплоть до появления ее в печати целиком, до конца. Только тогда, когда она напечатана была бы до конца, она поступила бы в общую собственность. Эта оговорка увеличивала, бы благотворительный капитал тысяч на 8, на 9. Но затем граф Толстой отказался от этой мысли и предложил за 1000 р. с листа только первое печатание, сейчас же переходящее в общую собственность. На этих условиях Маркс и купил, и это может подтвердить один из литераторов, взявший на себя посредничество в этом деде.
Г. Маркс тщательно умалчивал в своих оповещательных рекламах при подписке на «Ниву» об этих условиях. Он собрал подписку прекрасную, которая сторицею возвратила ему потраченный капитал на приобретение первого печатаная. Но ему этого было мало, ибо капиталу все мало. Когда стали появляться перепечатки, — надо сказать, что при этих перепечатках умалчивалось, что они делаются из «Нивы», что не корректно, во всяком случае, — г. Маркс стал осаждать графа Толстого просьбами положить предел этим перепечаткам до появления всей этой повести. Граф Толстой сначала настаивал на своем праве, но потом, очевидно, тронулся мольбами г. Маркса и обратился с просьбою к повременным изданиям не перепечатывать повести, в интересах г. Маркса, до появления ее на страницах «Нивы» целиком.
Надо при этом вспомнить, что г. Маркс угрожал сначала судом тем, которые станут перепечатывать повесть. На эту угрозу он не имел ни малейшего права и она вполне противоречила тем условиям, на которых он купил эту повесть. Когда эта самовольная угроза не остановила перепечатки, он стал просить графа Толстого вмешаться в это дело… Мне думается, что вся эта история прекрасно характеризует капиталиста и рабочего, в таких представителях, как г. Маркс и гр. Толстой. Было уже напечатано письмо, где г. Маркс защищает свои выкидки из повести («Домашняя цензура») и говорит, что будто бы в заграничных изданиях «печатают роман графа Толстого с урезками, несравненно более значительными». Не знаю, о каких изданиях идет речь, но могу указать на объявление в «Bibliographie de la France».
* * *…Даже в том, что все на меня обрушивается, точно я виноват во всех прегрешениях правительства и общества, во всех наших неустройствах, я вижу признаки не исчезнувшего еще холопства. Мне говорят, что я предсказал, что делается все так, как я предполагал. Да я сорок раз вижу одно и то же, и достаточно знаю общество, которое способно сочувствовать, но не способно выражать свое сочувствие, или не умеет. Молчать при этом обществе хуже всего. Если б я молчал, было бы еще хуже.
* * *…Что значит «глубокое негодование общества?» Какого общества? Я знаю, что ничего подобного не было. Я получил несколько десятков писем от молодежи, большею частью порицательных, но были и спокойные, рассудительные; из общества — пять писем порицательных и десятка три благодарственных, даже очень. Если «глубокое негодование» в Союзе писателей, то это еще не общество. Наконец, какую часть этого Союза надо отнести на личные счеты, на зависть, на бессильную злобу совсем не против меня, а против власти. Меня больше всего возмущало, что меня сделали ответственным за все прегрешения правительства и за всю немощность общества. Что бы ни делалось скверного, все я виноват. Я всегда очень скромно смотрел на свою деятельность и это взваливание на меня всех нелегких поистине изумительно. Не зависит ли это от присущего обществу холопства? О полиции никто не пикнул ни слова. А я все-таки сказал, что дело вышло из-за столкновения с полицией и напомнил, что в 1857 году, после расправы полиции со студентами, дело было расследовано и полицейские чины, оказавшиеся. виновными, получили возмездие («Новое Время», 8264). Вообще, дело это стало известным, благодаря моим письмам. Мне говорят, что следовало молчать, потому что всего сказать нельзя. Но я сам предупреждал читателя.
26 сентября.
Сегодня я разговорился со сторожем на ст. Кресты. Он получает 10 руб., служит 25 лет. Жаловался на свою судьбу. Все зависит от «мастера»: если сторож отдает мастеру жену или дочь, тогда и хорошо. Он женат на второй. Наивно рассказывал, как мастер залез в окно к его жене и как она ему жаловалась. Дети у него от первой жены — неудачники. Один какой-то немощный. Другой женился, а на девятый день она родила. Я спросил наивно: «Почему же?» — «Да она была …, по солдатам ходила». Он эту фразу сказал так просто, как бы другой сказал: «она хорошая женщина», или «сегодня воскресенье».