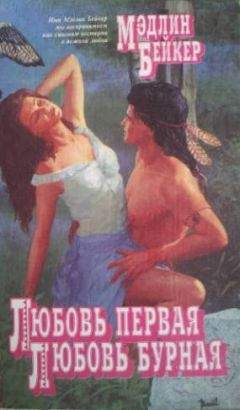Любовь Воронцова - Софья Ковалевская
«Эти глупые, но неотложные практические дела, — смеясь и досадуя, писала она своему немецкому приятелю Ханземану, — являются серьезной пыткой для моего терпения; я начинаю понимать, почему мужчины так высоко ценят хороших практичных хозяек. Будь я мужчиной, я выбрала бы себе маленькую красивую хозяюшку, которая избавила бы меня от всех этих скучных дел. При теперешнем положении вещей, стоит мне на минуту заняться абелевыми функциями и углубиться в них, уйти далеко-далеко от всяких практических забот, меня немедленно возвращает на поверхность какой-нибудь ничтожный вопрос, где мое решение является необходимым».
Несмотря на это, ученая твердо отвергла все советы не брать Фуфу в чужую страну.
— Я уже достаточно освоилась со Швецией, приобрела устойчивое положение, добрых друзей. Теперь я должна сама воспитывать свою дочь.
Лермонтова проводила их до Петербурга, там они сели на пароход.
Через три дня прибыли в Стокгольм перед закатом солнца.
Их никто не встретил на пристани. Софья Васильевна взяла ручную тележку для чемоданов, дала адрес рабочему, а сама с дочкой пошла пешком через большой сад, где на клумбах, к великой гордости северян-шведов, впервые зацвели тропические агавы.
Квартира Ковалевской находилась в Villastraden — районе вилл. Невысокие дома были окружены палисадниками и чистыми двориками: вместо магазинов имелись лишь мелочные лавочки. Жили здесь не богачи, селившиеся на Приморской улице, среди иностранных посольств, а преподаватели высшей и даже средней школы, существовавшие на свой очень тогда скромный трудовой заработок.
Дом, куда привезла Софья Васильевна Фуфу, был серый, двухэтажный, с большим палисадником и двором, усыпанным гравием. От улицы Энгельбрехт, названной так в память шведского национального героя, его отделял ряд деревьев. Из передней две двери вели одна в гостиную, другая в коридор, сообщавшийся с кухней, а из гостиной дверь справа — в кабинет Софьи Васильевны. Там у окна стояли большой письменный стол и две высокие открытые этажерки для книг; у противоположной стены — кушетка и маленький круглый стол.
Письменный стол был всегда завален бумагами, на этажерках, среди книг по математике, находились сочинения Лермонтова и номера «Северного вестника», издателем которого была подруга сестры Жанна Евреинова, первая русская женщина — доктор права.
До начала занятий в университете Софья Васильевна много времени посвящала дочке: читала ей вслух русские книги, рассказы из журнала «Школа и семья», водила на уроки гимнастики, на прогулки, учила шведскому языку.
Осенью, когда съехались семейные друзья Софьи Васильевны и появились сверстники, Фуфа быстро овладела новым языком. Если мать делала ошибки, отдавая распоряжения служанке, девочка поправляла ее, и Софья Васильевна с гордостью рассказывала знакомым:
— Моя дочь уже теперь превосходит свою мать… в некоторых отношениях!
Но ее очень тревожило сходство с отцом в характере дочери. Ей хотелось предотвратить у девочки роковое безволие Владимира Онуфриевича. Когда в самом начале пребывания в Швеции Фуфа спросила мать: «Отчего умер мой папа?», у Софьи Васильевны сделалось страдальческое лицо, она не строго, но очень настойчиво сказала:
— Фуфа, никогда, слышишь, никогда не спрашивай меня об этом.
Софье Васильевне пришлось приложить большие усилия, чтобы преодолеть вызванную долгой разлукой отчужденность дочери. Помогли ей та восторженная любовь, которую питали к русской ученой ее шведские друзья, почтительность ее учеников и уважение таких известных лиц, как профессор Гюльден, Норденшельд, Ибсен, Нансен, Брандес. Фуфа стала гордиться Софьей Васильевной и вниманием, каким ее окружали.
БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ
Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенння глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь, — который раз?
Что счастие?
ТАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЬЕ
И только-только расположилась Софья Васильевна по-семейному, с дочерью и служанкой, предвкушая удовольствие того покойного, размеренного образа жизни, которого ей давно недоставало для математических занятий, только решила укротить свое бунтующее сердце работой, как снова вызвали к сестре. Оставив Фуфу на попечение Анны-Шарлотты, Ковалевская среди зимы уехала морем до Гельсингфорса, а оттуда поездом в Петербург.
Жизнь Анюты висела на волоске. В таких случаях Софья Васильевна не испытывала страха, не отступала перед препятствиями. Для Анюты она была готова на любые жертвы. Она написала Миттаг-Леффлеру письмо с просьбой продлить ей отпуск для ухода за сестрой. Но шведский друг, взывая к ее благоразумию, отказался выполнить просьбу, ссылаясь на то, что противники женского равноправия воспользуются этим случаем: никогда мужчина не мог бы получить отпуск для ухода за членом семьи.
Даже зная о тяжелом характере недуга, Ковалевская была потрясена состоянием Анюты: болезнь разрушала не только ее прекрасный физический облик, она убивала в ней человека. Анюта страдала невыносимо, целыми днями и ночами стонала от болей, и ничто уже не могло отвлечь ее от страданий.
Затем вдруг наступало на несколько часов облегчение, и она кротко улыбалась, сравнительно спокойно разговаривала и была снова той бесконечно дорогой, умной, доброй Анютой, которую боготворила Софья Васильевна.
— О, как глупа жизнь! — мрачно твердила Ковалевская. — Как нелогична смерть! Разве я могу потерять Анюту, такую близкую, такую умную?! Зачем же она жила и столько страдала, если смерть смеет унести эту большую жизнь в одно мгновение?..
И в долгие дни и ночи, которые Софья Васильевна проводила у постели больной, она думала о разнице между тем, «как было», и тем, «как могло быть». Она вспоминала, с какими мечтами они, сестры, вступали в жизнь — молодые, красивые, щедро одаренные. Правда, они были участницами больших событий, но в глубине сердца и у той и у другой сестры осталось горькое сожаление о разбитых надеждах. Анюта умирает, не проявив и малой части своего дарования. А сама она, достигшая в науке таких вершин, каких достигали немногие женщины, облегчила ли она путь своим бесправным сестрам? Она живет, как вырванное из почвы растение, не осыпая семенами своих дел родную почву… Может быть, прояви она в нужный момент усилие воли, не было бы отступления, трагической гибели Владимира Онуфриевича, невозвратимой потери времени.
— Кому не приводилось раскаиваться в каком-то важном необдуманном шаге, — говорила Софья Васильевна, — и кто не желал начать жить сызнова?
Софье Васильевне захотелось написать два параллельных романа, в которых бы изображалась судьба людей с дней юности, когда вся будущность еще впереди. Один из этих романов должен был показать, к каким последствиям привел сделанный ими выбор жизненного пути; другой — что случилось, если бы они пошли иной дорогой.