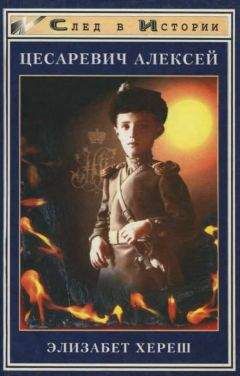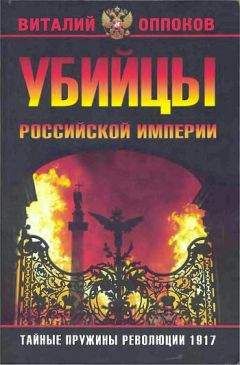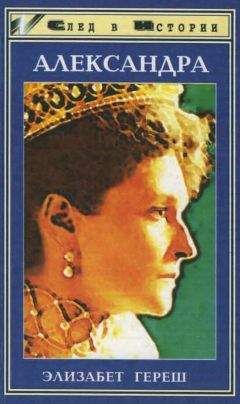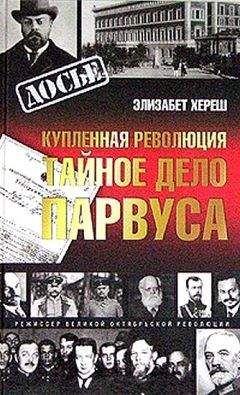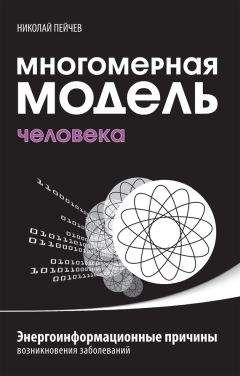Элизабет Хереш - Николай II
Корнилову было поручено объявить царской семье, что они считаются арестованными. От имени правительства он также должен был удалить придворных и слуг, которых насчитывалось несколько сот. Он собрал всех в одном из залов дворца и объявил, что они могут считать себя свободными. Те же, кто хотел продолжать службу царской семье, должны были делать это на свой страх и риск. Тут началось такое массовое бегство, что Корнилов, глядя на это, процедил сквозь зубы: «Лакеи…».
Позднее некоторые из тех, кто сохранил верность бывшему государю, погибли насильственной смертью, разделив его судьбу до конца.
Не успел поезд Николая остановиться у царскосельского вокзала, как его свиту словно ветром сдуло. Одним из немногих, оставшихся с ним в будущем, был генерал-майор свиты князь Долгорукий[120]*. Ему довелось вместе со своим тестем графом Бенкендорфом в последние месяцы пребывания семьи царя в Царском Селе, как и врачу Боткину и воспитателю царевича швейцарцу Жильяру (тот из-за войны не мог вернуться на родину), оказывать ей помощь и моральную поддержку. Они были вместе почти до самого конца.
В Ставке с бывшим царем обращались тактично, соблюдая не обязательные уже нормы этикета, чтобы не расстраивать его по мелочам. Однако в Царском Селе Николай встретил уже совсем другое отношение.
Царь подъехал к воротам дворца. «Кто там?» — грубо спросил часовой. «Николай Романов!» — отвечал шофер. После долгих проволочек бывшего хозяина впустили в дом. Солдаты глазели на него, некоторые выкрикивали ругательства. Это могло шокировать Николая, но он сделал вид, что ничего не замечает. Напротив, он приветствовал охрану, стоявшую вразвалочку, в неряшливой форме, с папиросами в зубах, и направился внутрь Александровского дворца, навстречу другим столь же расхлябанным личностям, механически отдавая им честь, на что они не ответили. Седовласый гофмаршал граф Бенкендорф с моноклем известил Александру о прибытии царя так, словно старый порядок еще был в силе: «Его Величество император!».
Он открыл дверь, и в следующее мгновение Николай и Александра бросились в объятия друг другу. Ощутив себя в теплой атмосфере семьи, царь сбросил с себя дотоле державшие его оковы сдержанности и вместе с Александрой дал волю слезам. «Прости меня…», «Это моя вина…» — повторяли оба.
Николай записал в дневник первые впечатления по возвращении; вид встреченных им солдат русской армии, некогда гордости России, совершенно потряс его:
«Скоро и благополучно прибыл в Царское Село в 11 1/2. Но Боже, какая разница, на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики! (…) Но потом свидание с семьей, с Долгоруковым, немного походил в саду, потому что дальше мне запрещено!».
Примечательно, что царь не протестовал против своего содержания под стражей (хотя конституция вовсе не предусматривала лишения свободы для отрекшегося царя) и не жаловался на распущенность охраны. Видимо, он считал, что с этим уже ничего не поделаешь.
Возможность быть в кругу семьи смягчила, по крайней мере, для самого бывшего царя, его неприятное положение. Все наблюдатели отмечают, что царь Николай был идеальным, любящим отцом семейства, что лучше всего он чувствовал себя в кругу семьи. Здесь он черпал силы, помогавшие ему переносить неудобства нынешнего существования. Правда, это пока были лишь первые, еще безвредные предвестники ужасного конца, предстоявшего ему и его семье.
Охрана была назначена солдатским Советом — революционным крылом Временного правительства, считавшим себя олицетворением победы революции[121]. Солдаты тешились обретенной властью над совсем недавно всемогущим царем, словно малые дети. Им нравилось издеваться над царем и его семьей, врываться в жилые комнаты. Однажды фрейлина царицы Анна Вырубова наблюдала с кровати, как солдат среди ночи стал у ее стола и рылся в ее вещах.
При каждом выходе из дворца, даже в сад, где царской семье разрешалось гулять, приходилось просить ключ от дверей. Наконец, им вообще запретили выходить из здания. Только оставшемуся при них домашнему врачу доктору Боткину удалось добиться разрешения на короткую прогулку.
Как-то среди ночи одному из солдат позарез захотелось посмотреть на Алексея; воспитатель Жильяр встал у него на пути и защищал своего подопечного. Когда Николай долго гулял в саду, его прогоняли грубыми окриками. Когда он садился на велосипед, новые господа развлекались, втыкая штыки между спицами, чтобы бывший царь упал. По ночам они устраивали шумные загулы в винном погребе.
Больше всех возмущался обращением с бывшим царем его сын Алексей. Для тринадцатилетнего мальчика Николай был высшим авторитетом, он единственный мог одним взглядом урезонить шалуна или смягчить боль. Теперь ему приходилось видеть, что авторитета. у отца не стало никакого, зато он вынужден подчиняться приказам и терпеть унижения; от всего этого Алексей временами впадал в отчаяние.
Чем наглее становилась охрана, тем спокойнее и дружелюбнее вел себя с ней Николай. Ему, видимо, было понятно, что они развращены соответствующей пропагандой. Он заводил разговоры с солдатами, пытаясь понять мотивы их поведения и критическими замечаниями завязать дискуссию.
Некоторые изменили отношение к нему, поняв, что Николай, возможно, вовсе не был кровожадным чудовищем, каким его представляли. Кое-кто даже помогал ему и членам семьи в садовых работах, которыми они занимались ежедневно.
Бывшая царица сохраняла достоинство и сдержанность, но в душе терзалась. Дети также терпели, стараясь держаться вместе. Старшая дочь Ольга выражала в стихах печаль семьи. Решающую роль для условий содержания и дальнейшей судьбы семьи играли решения министра юстиции Керенского.
Керенский в первом составе Временного правительства был министром юстиции, а в начале лета 1917 года заменил Львова на посту председателя правительства и стал также военным и морским министром. Адвокат по профессии, он был талантливым оратором и сумел, мгновенно анализируя ситуацию и действуя решительно, во время февральских событий перехватить инициативу и осуществить свое давнее стремление к власти. Убежденный революционер и известный масон, Керенский в период своей деятельности во Временном правительстве постоянно балансировал между либералами из Думы и крайне левыми в Советах.
Чтобы создать запоминающийся образ, Керенский одевался в фантастическую форму и наполеоновским жестом закладывал руку за отворот френча. На публике его всегда сопровождали двое адьютантов. Такой же двойственной была и его роль в решающие месяцы российской истории в 1917 году, в том числе и в отношении судьбы Романовых. В то время как Керенский успокаивал Советы, которые считали отречение Николая недостаточной мерой и требовали его заключения в Петропавловскую крепость и казни, он заявил во время дебатов о смертной казни: «Я за полную отмену смертной казни — единственное исключение делаю для царя!»[122].