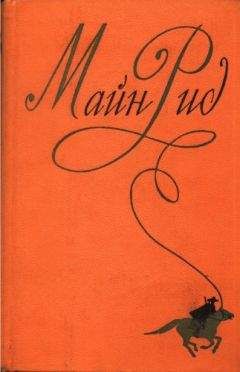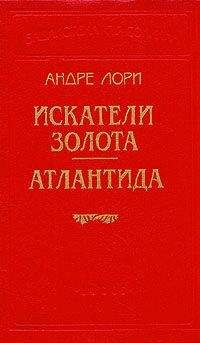Лев Гумилевский - Зинин
Николай Николаевич при всей своей эрудиции, умению возражать молчал. Александр Михайлович, спокойно продолжая речь, заключил ее твердой уверенностью:
— Изучение медиумических явлений не только озарит новым светом психофизиологию, которой оно ближе всего касается, но могущественно отразится на самых основах естествознания — оно внесет радикальные изменения в наши понятия о веществе, о силе, об их взаимных отношениях!
— Так какого же черта, раз вы так твердо убеждены в этом, не займетесь сами исследованием этих явлений?! — воскликнул Николай Николаевич, сдаваясь на горячность Бутлерова. — Кому же, как не вам, взяться за это?
Александр Михайлович задумчиво качал головою.
— Независимо от трудности самого предмета, исследование которого едва ли может поддаться силам одиночного специалиста, мне казалось всегда и кажется, что прежде всего нужно добиться общего признания действительного существования того предмета, который подлежит изучению. Нельзя требовать, чтобы люди посвящали себя изучению явлений, существование которых отвергается, и работал и, следовательно, будучи заранее уверены, что результаты, ими добытые, останутся игнорируемыми или, что еще хуже, подвергнутся осмеянию. При таких условиях исследования не могут быть плодотворными: отрасли человеческого знания развиваются не изолированными трудами отдельных лиц, и время серьезного изучения медиумических явлений начнется тогда, когда здесь поступят так же, как поступают при исследовании других явлений природы, то есть перестанут замыкаться в тесную рамку собственных наблюдений и будут общими силами, при помощи трезвой критики и взаимной проверки созидать новую обширную отрасль знания!
Продолжая выступать время от времени с призывами к изучению медиумических явлений, с ответами на нападения, Бутлеров стяжал себе репутацию спирита и мистика. Но он продолжал это делать до конца жизни, памятуя о «предостережении», полученном им от университетских товарищей в далекой юности.
Требуя строго научного, совершенно объективного изучения медиумических явлений, Александр Михайлович избегал высказывать какие бы то ни было гипотезы, прежде чем не будет признано существование этих явлений и не будут получены данные для построения гипотез.
Но, разумеется, для самого себя он строил такие гипотезы и не раз в спорах с Зининым высказывал их в связи со своими взглядами на вещество и силу, как тогда говорили, на материю и энергию, как говорим мы сейчас. Некоторые взгляды ученика казались учителю дикими, еретическими, но он уже знал слишком хорошо, что пути, которыми человеческая мысль приходит к истине, бывают самыми невероятными. Ведь и учение об устройстве молекул, убеждение в делимости атома, в непостоянстве атомных весов были лишь следствием из воззрений Бутлерова на материю и энергию, к которым он был приведен, по его признанию, знакомством, с медиумическими явлениями.
Между тем Николай Николаевич спокойно допускал и делимость атома, и непостоянство атомных весов, и достоверность законов структурной теории, постепенно признававшейся всеми.
— Что же вам мешает допустить, — спрашивал Александр Михайлович своего учителя, превращавшегося теперь в ученика, — что вещество есть не более как только некоторая форма проявления энергии, представляющей единую и действительную сущность всей природы? Вещество без энергии не познаваемо, ибо тогда мы не воспринимали бы от него впечатлений, говорящих о его существовании. Вещество и энергия растворяются одно в другом. Где есть вещество, там всегда энергия, но где есть энергия, там не всегда непременно есть то, что мы называем веществом, например в явлении всемирного тяготения, притяжения на расстоянии! В этих явлениях, играющих столь важную роль в природе, у нас не остается для прибежища и остатков вещества — приходится допускать нечто, говорить о чем-то существующем или нет, мы не знаем, но необходимом для нас самих, для того, чтобы нам было за что ухватиться, было к чему приурочить свои механические воззрения с их необходимым дуализмом, с рассуждениями о движении и о том, что двигается…
— Разве гипотеза эфира не объясняет все эти загадочные явления? — напомнил Николай Николаевич.
— Я предпочитаю говорить просто о присутствии и переходе в пространстве энергии и о действии на расстояниях, чем допускать нечто, крайне тонкое, наполняющее пространство и называемое физиками эфиром, чтобы объяснить волнообразным движением среды световые явления… Вся масса затруднений, являющихся при допущении вещественности эфира, и недостаточность гипотезы этой для объяснения всех наблюдаемых нами явлений ведут к его отрицанию. А если мы решимся на это отрицание, то должны будем допустить возможность существования энергии без вещества!
Людям такого масштаба, как Бутлеров или Сеченов, природа должна была бы дарить две жизни, с тем чтобы они могли убедиться, насколько верно и как далеко они предвидели пути развития своей науки. Не связывая понятия материи с определенным физическим представлением о веществе, Бутлеров был очень близок к нашим нынешним воззрениям на материю и энергию. С гипотезой эфира наука рассталась давно уже, когда произошел переворот в мировоззрении естествоиспытателей, произведенный открытием электрона и установлением Эйнштейном закона эквивалентности массы и энергии, предчувствованного Бутлеровым.
Глава восемнадцатая
Громкое имя Зинина
Громкое имя, имя, которое будет жить всегда в научных летописях не одной России, а всего человечества, оставил ты по себе. Им может гордиться не одна твоя семья, гордимся им все мы, русские люди науки.
БутлеровВ истории русского общества нельзя найти деятеля науки более популярного у современников, чем Николай Николаевич Зинин. Каждое его слово имело вес и значение; высказывания передавались из уст в уста, к какой бы далекой от химии области они ни относились.
В 1865 году Лев Николаевич Толстой писал своему тестю:
«Есть в Петербурге профессор химии Зинин, который утверждает, что девяносто девять из ста болезней нашего класса происходят от объедения. Я думаю, что это великая истина, которая не приходит в голову и никого не поражает только потому, что она слишком проста».
Об этой простой истине Толстой вспомнил, когда уже «подумывал о поездке за границу, о лечении и в душе начинал отчаиваться».
«Не могу работать — писать, все мне скучно и мне все скучны, говорил я сам себе, лучше не жить! — рассказывает он в своем письме. — Но мне пришло в голову, прежде чем решаться на что-нибудь, сделать над собой опыт самой строгой диеты. Я начал 6 дней назад. Правда, кроме того, я каждый день обтираюсь весь водой и делаю хоть понемногу гимнастику. 6 дней я стараюсь есть как можно меньше, так что чувствую голод, не пью ничего, кроме воды с пол-рюмкой вина, и 6 дней я совсем другой человек. Я свеж, весел, голова ясна, я работаю — пишу по 5 и 6 часов в день, сплю прекрасно, и все прекрасно».