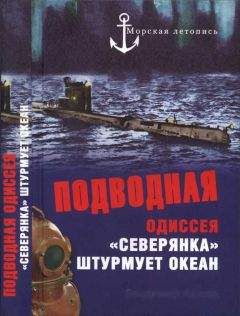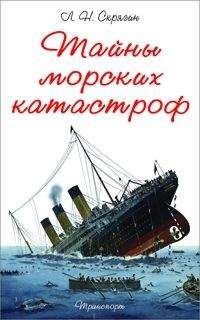Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Для меня целовать ее нежную благородную руку было всегда истинным счастьем.
А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по…
* * *Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово, мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси — «кровь и молоко»?). И когда говорят так: «русская красавица» — чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но все прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал ее еще в молодости (хотя уже и тогда было у нее трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому).
* * *Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела…
Например, с непередаваемым юмором необыкновенно весело рассказывала она о своем первом посещении редакции толстого журнала «Вестник Европы».
«Наконец после долгих колебаний я собралась с духом и понесла свой рассказ редактору Стасюлевичу. И, как на грех, дверь открывает мне он сам. Я так оробела, что начала, не поздоровавшись, бормотать: „Вот… я… я Матвей… Стасюлей Матвееви… Михаил Стясюлевич… Я потому… хочу предложить вам себя…“ Тут я уже так запуталась, что, не отдав рукописи, выскочила, как угорелая на улицу… Он, вероятно, принял меня за сумасшедшую…» <…>
* * *Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться. <…>
* * *И до чего все было сложно. Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Мизиновой. <…>
* * *Да, одиночество его было велико. Он знал все о своей болезни, любил Авилову, боялся за нее; любя, оберегал ее, не хотел разрушать семью, зная, какая она мать. <…>
VII
После нашего отъезда из Москвы мы не имели сведений о судьбе Лидии Алексеевны Авиловой. В 1922 году, когда мы жили в Париже, в середине ноября, пришло письмо из Чехословакии. Взглянув на последнюю страницу, я увидел подпись: Л. Авилова. Странно было то, что письмо было отправлено по адресу, по которому обычно нам писали из России родные. В те годы мы жили почти исключительно тем, что происходило в России, в вечном волнении за судьбу родных и близких. Ее письмо мы читали, волнуясь. <…>
* * *В Чехословакию Лидия Алексеевна приехала к своей больной дочери, вот к той Ниночке, которая очаровала меня в Москве, которая когда-то, будучи ребенком, сидела на коленях у Антона Павловича во время последнего свидания на вокзале.
* * *Мне ничего не известно о судьбе Авиловой после возвращения ее в Россию. Переписка наша прекратилась.
В примечаниях, приложенных к сборнику воспоминаний современников о Чехове, кратко сказано:
Авилова Лидия Алексеевна (1865–1942). <…>
Из части второй
В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было, как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.
* * *Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса…» Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается.
* * *Если случалось, что бездарный человек пускался при нем кого-нибудь характеризовать или копировать, он не знал, куда глаза спрятать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою «нежность»! Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Коммиссаржевской!
* * *Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!
— Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами, — сказал он однажды.
— Какого Урениуса? — спросил я.
— А разве нет такого поэта?
— Нет.
— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот им бы в Одессе жить. Там думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, — каждую минуту сапоги можно почистить.
* * *Вспоминаю с великим удовольствием еще то, что он терпеть не мог таких слов, как «красиво», «сочно», «красочно».
— Хорошо у Полонского сказано, — говорил я, — «красиво — уж не красота».
— Чудесно! — соглашался он. — А «красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!