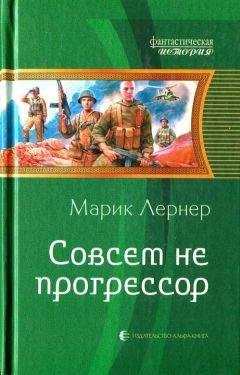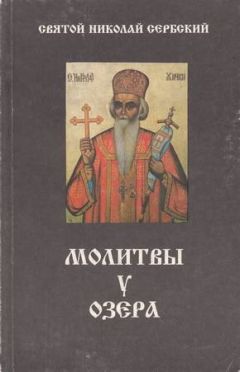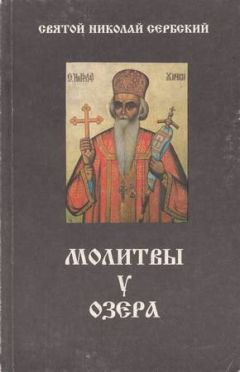Жорж Сименон - Я диктую. Воспоминания
Дрейфусы благодаря спекуляциям на зерне смогли перекупить «Энтрансижан», газету, созданную журналистом Леоном Байби, и тот не сегодня-завтра найдет дверь собственного кабинета закрытой.
Законом установлено, что после смерти автора права на его произведения переходят к его семье на срок всего в пятьдесят лет.
Почему то же самое не относится к Ротшильдам, Дрейфусам, Шнейдерам, которые царствуют уже больше чем сто пятьдесят лет?
Возьмем Мопассана: во Франции он считался второразрядным писателем, в большинстве же стран мира был знаменит куда больше, чем десятки других французских авторов, таких, как Поль Бурже[94], Баррес[95] и прочие им подобные, кто кукарекал по команде.
Где сейчас наследники Мопассана? На что они живут? Пятьдесят лет прошло. Несомненно, они не являются членами правления тридцати-сорока компаний сразу, как хозяева металлургических заводов или банкиры. Они впали в безвестность и, возможно, стыдятся своей фамилии.
Какое же приводится оправдание этому закону о пятидесяти годах, который касается писателей, но не сомнительных дельцов и фабрикантов, бог знает что производящих?
А вот какое: произведения писателя принадлежат национальной культуре.
Значит, по истечении пятидесяти лет можно законно прикарманить его наследство, непрерывность которого для людей других профессий соблюдается, и оставить его потомков ни с чем?
Говорят, что книгу можно продавать дешевле и сделать ее доступней для народа.
Однако на этом выигрывают только издатели. Книги покойного писателя начинают идти лавиной, чуть только истекает срок авторского права.
29 мая 1976
Вчера состоялось закрытие Каннского фестиваля. Все как обычно: свистки, аплодисменты, давка чуть не до драки. Как всегда, журналисты несогласны с большей частью присужденных жюри премий.
Я тут же вспомнил одну старую историю. После возвращения из Штатов я временно обосновался в Канне и присутствовал на двух фестивалях, но без исполнения каких-либо официальных функций, просто как зритель. Генеральный директор фестиваля спросил, не смогу ли я быть председателем жюри в один из ближайших годов, на что я ответил, что у меня не получится.
Тогда я еще не знал, что то ли на будущий год, то ли года через два бельгийское правительство обратится ко мне с просьбой председательствовать в жюри кинопоказа на Брюссельской международной выставке. Я пытался уклониться, но в конце концов вынужден был дать согласие.
На нас не оказывали никакого давления ни организаторы, ни продюсеры.
Через несколько недель после этого мне нанес визит генеральный директор Каннского фестиваля.
— После того как вы согласились стать председателем жюри в Брюсселе, вам уже нельзя отказаться от председательства в Каннах.
Его доводы, хотя несколько демагогические, были достаточно убедительны, и я в конце концов согласился.
Тогда я и познакомился с закулисной стороной фестиваля. У жюри была небольшая комната во дворце, где оно собиралось почти каждое утро. На первом же нашем заседании, увидев, как к нам входит генеральный директор, я удивился и по простоте душевной поинтересовался:
— А что вы собираетесь у нас делать?
Я указал ему, что жюри в принципе абсолютно независимо в решениях и на наших совещаниях присутствовать никому не положено, а потому попросил оставить нас.
Человек он был высокопорядочный, прекрасно воспитанный, деликатный в обхождении и во всех отношениях симпатичный. Но жюри есть жюри, и оно должно быть полностью независимо.
Мои слова вызвали некоторое замешательство. Генеральный директор сообщил мне с глазу на глаз, что над ним стоит высшая инстанция: министерство иностранных дел.
Он разъяснил, что страна, которая устраивает львиную долю крупных приемов, званых обедов, коктейлей, парадов кинозвезд, имеет, как минимум, решающее влияние на распределение призов.
Я, помнится, сказал ему, что мне на это наплевать: я, как и мои сотоварищи, нахожусь здесь, чтобы просматривать фильмы; мы не дипломаты.
С этого времени он стал проявлять тревогу. Почти каждый день в отеле «Карлтон» я видел его, а также представителя министерства иностранных дел, уполномоченного наблюдать за процедурой. Последний был тоже чрезвычайно симпатичный. Он делал свое дело.
А я упорно старался делать свое: мне доверили председательствовать в жюри, и я не желал слушать подсказок ни того, ни другого.
Мой старый друг Жан Кокто, который был председателем жюри, если не ошибаюсь, не то дважды, не то трижды, нашел способ удовлетворить всех. Каждый год он учреждал несколько специальных премий, что строго-настрого запрещено федерацией фестивалей; такая федерация существует и имеет устав, который, естественно, нарушать не положено.
В день последнего совещания, когда жюри в комнате с роскошным набором холодных закусок и коробками не менее роскошных сигар должно завершить свою работу, генеральный директор умолял разрешить ему присутствовать при обсуждении фильмов. Я отказал.
Не стану называть кандидатуры, которые мне подсовывали. Распределение премий было очень ловко состряпано прямо в министерстве иностранных дел.
Благодаря содействию нескольких моих коллег жюри удалось присудить «Золотую пальмовую ветвь» тому, у кого было меньше всего шансов получить ее, — Феллини за фильм «Сладкая жизнь», который до сих пор остается вершиной кинематографического искусства.
30 мая 1976
Когда виконт
Встречается с виконтом,
Они беседуют, конечно, не о ком-то,
А о виконтах[96].
Дня два-три назад я смотрел один из «круглых столов», которые телевидение стало устраивать все чаще и чаще. В нем участвовали только важные птицы: бывший министр, многолетний генеральный секретарь одной из правых партий, два профессора из Сорбонны и еще несколько человек того же ранга.
Все они в равной степени отличались умением владеть собой, приобретенным в привилегированных учебных заведениях, в частности в Национальной школе управления, откуда вышли все нынешние министры, замминистры и высокопоставленные чиновники.
Что касается темы этого «круглого стола», обсуждались экономические и политические проблемы, встающие сейчас перед Францией. Участники придерживались противоположных позиций.
Однако дискуссия, если только можно говорить о дискуссии, шла в очень благопристойной манере — ни дать, ни взять поединок на шпагах с предохранительными наконечниками.