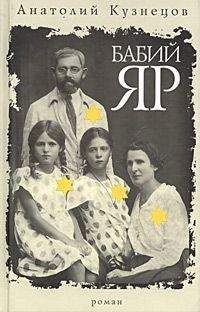Анатолий Равикович - Негероический герой
Для постановки «Трубадура и его друзей» из Москвы к нам пожаловали сами авторы знаменитого мультфильма: поэт Юрий Энтин, автор сценария и режиссер Василий Ливанов и композитор Геннадий Гладков. Это была настоящая банда шумных, раскованных, талантливых, еще молодых людей. Успех и деньги, совсем недавно свалившиеся на них, еще кружили им головы, как наркотик, и они приехали к нам продолжить праздник.
Самым колоритным был Гена Гладков. С головой, покрытой длинными, светлыми, спутанными волосами, уже начинавшими редеть, большим жабьим ртом, крючковатым носом, он чем-то походил на Щелкунчика. Обаятельный урод. Всегда подшофе, что, впрочем, не мешало ему вытворять за инструментом черт знает что, вызывая всеобщий восторг. Он импровизировал, на ходу сочинял необыкновенные мелодии.
С Васей Ливановым у него были особые отношения. Они дружили со школы, несмотря на разницу в социальном происхождении. Вася был отпрыском знаменитого артиста Художественного театра Бориса Ливанова, и с детства принадлежал к сливкам общества. А Гена был из простой, бедной семьи и, как он сам рассказывал, всегда чувствовал эту разницу. Но сейчас он стал необыкновенно знаменит, хорошо зарабатывал, и это вызывало некоторую зависть у Васи, считавшего себя в их отношениях до сих пор старшим братом. Вообще, характер у Васи был непростой, особенно когда выпьет. Агрессивность, а если говорить без затей, – спесь и хамство начинали вылезать из него до невозможности. Особенно это было заметно во время банкетов, когда он сильно напивался. Гена пил не меньше, но от этого только размякал, добрел, становился мечтательным и со смыкающимися уже глазами и упавшей на грудь головой музицировал, что-то напевал и плакал. Однажды он уезжал в Москву и пришел на вокзал уже сильно выпившим. В своем купе он застал двух аккуратных старушек, с волнением ожидавших предстоящую поездку. Они давно уже никуда не ездили, а тут заставила нужда – юбилей, пятидесятилетие окончания ими какого-то института. Старушки запаслись лекарствами, весь столик в купе был заставлен всевозможными пузырьками и таблетками. Взглянув на этих божьих одуванчиков, Гена растрогался до невозможности и, коря себя за свой подлый, неправильный образ жизни, умолял их не закрывать дверь купе, поскольку он пойдет в вагон-ресторан и вернется очень поздно. Старушки, тронутые Гениной печалью, согласно закивали головами, и Гена ушел. Вернувшись часа в четыре ночи, он тихонько отворил дверь в купе, разделся, не зажигая света, чтобы, не дай бог, никого не разбудить, и, оставшись в одних кальсонах, стал размышлять, как ему попасть на свою верхнюю полку. Обычно он ставил ногу на край нижней полки, задрав вторую, опирался на верхнюю и, подпрыгнув, оказывался на месте. Но этот способ сейчас не годился. Чуткие старушки, спящие на нижней полке, могли проснуться. Тогда Гена решил сильно оттолкнуться ногами от пола, подтянуться на руках и бросить ноги на верхнюю полку. То есть как бы взлететь одним движением на свое место. Повернувшись спиной к окну, чтобы во время прыжка не задеть случайно ногами столик, Гена примерился и – взвился над землей. Ему не хватило буквально нескольких сантиметров. Руки у него подломились, и он рухнул прямо на столик, издав страшный крик от боли, – это разбитые, старушкины пузырьки впились ему в зад. Его крик подхватили перепуганные насмерть бабульки. Зажегся свет, и они с ужасом разглядывали лежащего на полу в окровавленных кальсонах своего милого, деликатного попутчика.
Энтин не пил совсем. Но это не мешало ему веселиться, рассказывать анекдоты и смешные истории. В его облике было что-то детское, милое. Кучерявая голова и веселая улыбка делали его похожим на веселого амура с картин эпохи Возрождения.
С приездом москвичей в театре стал преобладать какой-то гусарский стиль: попойки, банкеты, вечеринки пошли нескончаемой чередой. И если сначала все это было после спектаклей, то потом постепенно стали потихоньку выпивать и до, и во время. Владимиров, сам хорошо умеющий выпить, был чрезвычайно строг и принципиален в вопросах дисциплины, а пьянства – особенно. Он очень хорошо знал, как разваливаются театры и гибнут таланты, когда на пьянство смотрят сквозь пальцы. На моей памяти он уволил за пьянство несколько очень нужных театру артистов. Но сейчас он сам поддался этому всеобщему эпикурейству, и, к моему ужасу, перестал себя сдерживать и частенько появлялся даже на репетициях навеселе. Мы тогда еще не знали, что одной из главных причин грядущего заката Театра им. Ленсовета будет эта разрушающая страсть, болезнь, запои до белой горячки. Мне кажется, что тогда он впервые отпустил вожжи и уже был бессилен справиться с собой.
Спектакль «Трубадур и его друзья» получился веселый и красочный. Миша Боярский как нельзя лучше подходил на роль Трубадура – замечательно пел, двигался, был трогательным и смешным. Сергей Мигицко играл Осла. Не в обиду ему будет сказано, на мой взгляд, это была одна из лучших его ролей. Принцессу начинала репетировать Фрейндлих, что, по-моему, ей делать не стоило, ей исполнилось к тому времени уже сорок лет. Но ведь как хочется продлить свою молодость, красоту, свежесть! Ведь внутри-то мы не стареем, и нам кажется, что еще далеко не вечер. Особенно это касается женщин-актрис, тем более если твой партнер так молод и красив, как Боярский. К счастью, Алисе хватило и ума, и вкуса отказаться от роли, и принцессу очень мило играла Лариса Луппиан, бывшая студентка, как и Мигицко, Игоря Петровича Владимирова. Я играл «глупого Короля». Играл с большим удовольствием, много импровизировал, валял дурака и развлекал публику. И в этом же семьдесят четвертом году я сыграл, возможно, одну из лучших своих ролей – Аздака из «Кавказского мелового круга» Брехта. Спектакль имел необычную форму. Помнится, в том же году проходили то ли Дни немецкой культуры в Советском Союзе, то ли еще что-то подобное, и Владимиров решил, а почему бы не поставить спектакль по немецкой классике? Глядишь, перепадет поездка в ГДР, если спектакль выиграет конкурс. Стали искать пьесу. Перечитали целую библиотеку немецких драматургов от Гете до Брехта и не нашли ни одной, которая сегодня звучала бы современно, а не вызывала тоску и зевоту. Уж на что Шиллер всегда имел успех у русского зрителя («Коварство и любовь» и «Разбойников» ставили не реже, чем «Ревизора»), и даже он казался выспренним, совершенно не натуральным и занудным. Владимиров уже готов был отказаться от идеи поставить немецкий спектакль, как вдруг нашелся выход из этого тупика. Его помощник, в то время молодой режиссер Володя Воробьев, работавший с курсом Владимирова, предложил очень простой способ, как из скучной пьесы сделать интересный спектакль: не играть всю пьесу, а сыграть только лучшие сцены. Выбрать пять-шесть пьес, процедить, отжать, добавить общую, объединяющую их концепцию и, пожалуйста, – готовый спектакль. А действительно, зачем целиком смотреть «Марию Стюарт»? Театральная публика и так прекрасно ее знает. А вот как играют артистки главную сцену, очень даже интересно. Эта идея окрылила Игоря Петровича, и он стал снова, но под другим углом читать немцев. В результате, в спектакль вошли в первом акте большие фрагменты из четырех пьес. Это «Страх и отчаяние Третьей империи» Б. Брехта, «Уриэль Акоста» Гуцкова, «Мария Стюарт» Шиллера и «Фауст» Гете. Весь второй акт был скомпонован из «Кавказского мелового круга» Брехта и шел целый час. Спектакль назывался «Люди и страсти». По мысли Владимирова, все эти сцены объединяет одна общая черта. Люди там показаны в самые решающие, самые трагические минуты их жизни, когда накал страстей, напряжение достигает вершины. Это интересно смотреть и интересно играть. По форме спектакль напоминал экзамен по мастерству на каком-нибудь актерском курсе, где роли исполняют одни и те же студенты. Так, Алиса Фрейндлих играла в «Марии Стюарт» Елизавету, в «Уриэле Акосте» самого Акосту, Марию-Антуанетту и еще пела зонги как ведущая действа.