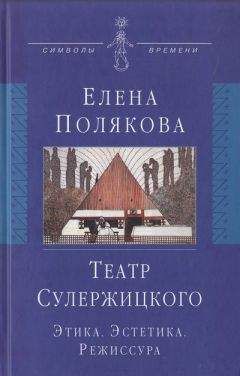Николай Телешов - Записки писателя
Отказ Художественного театра от старой манеры ценных подношений имел в основе справедливое и серьезное соображение: все это не что иное, как пережиток времени, когда деятельность актера считалась трудом низменным, неблагородным, и публика находила возможным и достаточным платить за наслаждение игрою, так сказать, грубым, примитивным способом — деньгами, «аплодируя метаньем кошельков» и откупаясь этим от чувств более высокого порядка. Расплату золотом за талант, за вкладываемую в дело душу труппа сочла унижением достоинства своих членов.
К осени перебрались из Пушкина в Москву, в Каретный ряд, в щукинский театр «Эрмитаж», где было грязно и неуютно. Повсюду чистили, мыли, убирали, красили, клеили, а на сцене в поставленных уже декорациях и в готовой бутафории репетировали полным ходом; учились делать боярские поклоны малые, поклоны большие, практиковались ладить с длинными-длинными рукавами, которые съезжали и не держались, учились проходить в узенькие и низкие двери царских теремов…
Наконец, наступил знаменательный день 14 октября.
По городу давно уже расклеены афиши, на кассе вывешен аншлаг: билеты все проданы. Волнение у всех неописуемое. Все участники дела отлично понимали, что в этот вечер их будущее, их судьба поставлены на карту.
Станиславский им говорил:
— Сегодня мы или пройдем в ворота искусства, или они захлопнутся перед нашим носом.
Оркестр уже заиграл увертюру, специально написанную для открытия композитором Ильинским… Еще каких-нибудь пять — десять минут, и все эти «любители» и эта молодежь, только что окончившая театральную школу, предстанут перед аудиторией неведомой, загадочной и, по слухам, не очень дружелюбной. Шептунов и недоброжелателей предполагалось немало в зрительном зале. И это остро чувствовалось всеми, кто находился по ту сторону оркестра, за занавесом, на сцене.
«Я волновался до неприличия, — сознавался Лужский, взявший на себя одну из ответственных ролей — Ивана Петровича Шуйского в пьесе «Царь Федор». — А это разве не волнение: подергивание цепи на груди у другого Шуйского — Василия Ивановича? А Москвин, бледный под гримом, пробирающийся из-за кулис слушать увертюру: молодой, никому не ведомый, взявший на себя труднейшую роль царя Федора, остановился среди сцены и не знает, куда идти…
А Немирович-Данченко? Во фраке и белом галстуке стоит возле кулис с окаменелым лицом и чуть мигающим глазом, — разве все это не волнение? А как волновался Вишневский — Годунов, хватался то за голову, то за кушак, то хлопал ладонями по полам кафтана.
Даже Дарский, такой опытный провинциальный актер, и тот поддался общему настроению, а у него самые первые слова в пьесе: «Да, да, бояре, на это дело крепко надеюсь я». Перед выходом он повторял эту фразу на всевозможные лады, то выделяя «да, да», то «бояре», то «это», то «крепко», — и все казалось ему «не так». Он ударял рукой по близстоящему столу или подходил к одетому уже, загримированному статисту, клал ему на плечо руку и заглядывал в глаза своими близорукими глазами, опять-таки повторяя свое «да, да».
А Станиславский, тоже бледный от волнения, чувствовал себя ответственным не только за себя, но и за всех. Он переходил от кулисы к кулисе, трогал дрожащими руками закрытый пока занавес, а когда в оркестре в одном из мест увертюры вырвались веселые звуки, он хотел было заплясать, чтоб поддержать у всех бодрое настроение, но сейчас же был удален со сцены режиссером, понявшим его душевное, далеко не веселое, состояние».
Публика сидела спокойно и слушала музыку, глядела на серый занавес, и никто не знал, что творилось там, за этим занавесом, как переживали эти люди последние минуты перед началом спектакля, перед началом своей судьбы.
Решался вопрос жизни нового дела.
И вот — впервые распахнулся занавес Художественно-общедоступного театра. Раздались среди тишины первые вступительные слова Дарского:
— Да, да, бояре, на это дело крепко надеюсь я.
Это были слова, в которые всем тогда хотелось верить, которые казались пророческими. И через десять лет, когда Москва торжественно праздновала первый юбилей театра, эти самые слова вошли в состав адреса, поднесенного артистами своим руководителям — Станиславскому и Немировичу-Данченко.
Трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» была напечатана в «Вестнике Европы» за 1868 год и с того времени никогда не была поставлена на сцене. Предвидя, что пьеса эта вряд ли когда пойдет, автор тем не менее написал «Проект» ее постановки, небесполезный, по его словам, для артистов «на частном театре». Роль Федора, говорится в проекте, «очень многосложна и проходит через самые разнообразные состояния души, от добродушной веселости, когда он шутит с Ириной, до исступления, когда он узнает о смерти Шуйского. Из всех лиц трагедии лицо Федора самое трудное, оно требует большой тонкости уже потому, что в нем трагический элемент и оттенок комизма переливаются один в другой, как радужные цвета на раковине».
И молодой артист Москвин, следуя такому определению, еще вчера никому не ведомый, сделался вдруг, в один вечер, почти знаменитостью, изумив тонкостью своего исполнения даже завзятых театралов, видавших виды. Незабываемую фигуру Годунова дал на этом спектакле и Вишневский, фигуру, строго выдержанную и ярко очерченную, совершенно согласную с тем, как понимал ее автор. Все время это был человек, стоящий на голову выше всего окружающего, точно самой судьбой намеченный на царство, умеющий хотеть, человек железной, непреклонной воли.
Говоря на другой день об исполнении, все видные критики сошлись на том, что артисты малоизвестные и совсем неизвестные были на высоте положения и все они вместе и каждый в отдельности дополняли настроением каждую сцену и давали ей надлежащую полноту и законченность. Многие удивлялись, где театр мог достать всю эту изумительную утварь, эти ткани, эти костюмы, так не похожие на театральные, сшитые в современных мастерских; костюмы без неприятной новизны, а будто вынутые из старинных сундуков, — точно действительно настоящие одеяния всех этих боярынь и бояр. Зрителя захватывала своим общим тоном эта размашистая Русь XVI века, со всем ее своеобразным, пестрым колоритом, со всеми особенностями ее быта и духа.
Настроение в зале повышалось с каждым актом, с каждой картиной. Несмотря на скептиков и шептунов, пришедших сравнить настоящих, именитых актеров с дерзновенными «любителями» и посмеяться над их несомненным провалом, несмотря на этих недоброжелателей, ворчавших или ядовито остривших в антрактах, спектакль захватывал публику. Удивляло и восхищало все — и постановка, и пьеса, и декорации; костюмы, утварь, народные сцены производили впечатление невиданного. Незнакомые имена артистов запоминались, произносились с интересом и похвалой. Словом, успех был полный и несомненный, и театр с этой ночи вошел в художественную жизнь Москвы как неотъемлемая составная часть этой жизни.