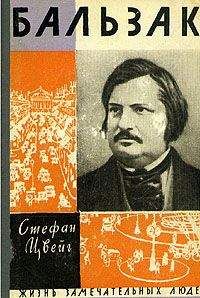Стефан Цвейг - Борьба с демоном
Ни с чем несравнимое своеобразие непрерывных превращений Ницше состоит в том, что линия его жизни развивается как бы в обратном направлении. Если возьмем опять Гете — как самый наглядный пример, как прототип органической натуры, развивающейся в таинственном созвучии с мировым порядком, — то легко заметим, что формы его развития символически отражают возрасты человеческой жизни. Мы видим его вдохновенно пламенным юношей, рассудительно–деятельным мужем, кристально–мудрым старцем: ритм его мышления определяется органически температурой его крови. Его начальный хаос (естественный в юности) превращается в порядок (свойственный старости), из революционера он становится консерватором, из лирика ученым, самосохранение сменяет юношескую расточительность. Ницше идет обратным путем: если Гете стремится к достижению внутренней прочности, плотности своего существа, то Ницше все более страстно жаждет саморастворения: как всякая демоническая натура, с годами он становится все более торопливым, нетерпеливым, бурным, буйным, хаотичным. Даже внешние события его жизни обнаруживают направление развития, противоположное обычному. Жизнь Ницше начинается старостью. В двадцать четыре года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, пьют пиво на корпорантских пирушках и устраивают карнавалы, Ницше — уже ординарный профессор, достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете. Его друзья в ту пору — пятидесяти и шестидесятилетние мужи, престарелые и знаменитые ученые, как Якоб Буркгарт[118] и Ричль[119], его ближайший друг — самый серьезный и самый замечательный художник эпохи: Рихард Вагнер. Неумолимая, железная строгость, непоколебимая объективность изобличают в нем только ученого, отнюдь не художника, и в его работах звучит голос не начинающего, а опытного исследователя. Силой подавляет он в себе поэтическую мощь, вздымающийся поток музыки; будто какой–нибудь высохший советник, сидит он, склонившись над греческими рукописями, составляет указатели, перелистывает запыленные листы древних памятников. Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого; его жизнерадостность замурована в старческую манию, его задор в профессорское достоинство, его взор в книги и научные проблемы. В двадцать семь лет «Рождением трагедии»[120] он прорывает первую, пока еще скрытую штольню в современность; но автор еще не снимает строгую маску филолога, и лишь первые подземные вспышки намекают на будущее — первые вспышки плазменной любви к современности, страсти к искусству. В тридцать с лишним лет, когда нормально человек только начинает свою карьеру, в возрасте, когда Гете получает чин статского советника, а Кант и Шиллер — кафедру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии. Это — первый итог, который Ницше подвел самому себе, первая его встреча со своим собственным миром, первое внутреннее переключение, и в этом отказе рождение художника. Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность — трагический, несвоевременный Ницше, со взором, обращенным в будущее, с чаянием нового, грядущего человека. Он вступил на путь непрерывных молниеносных обращений, внутренних переворотов, резких переходов от филологии к музыке, от суровости к экстазу, от терпеливой работы к танцу. В тридцать шесть лет Ницше — философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант — переживает «лучшую юность», чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего, грядущего человека. Так годы развития, вместо того, чтобы сообщить жизни художника устойчивость, прочность, целенаправленность, как это бывает обычно, с какой–то страстностью разрывает все жизненные отношения и связи. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В сорок лет язык Ницше, его мысли, все его существо содержит больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в семнадцать лет, и отшельник Сильс — Марии шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец поступью, чем преждевременно состарившийся, двадцатичетырехлетний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает все большую интенсивность: все стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, все злораднее и циничнее становятся его превращения; нигде не находит «точки опоры» его торопливый дух. Едва замедлит он где–нибудь, как уже «коробится» и рвется кожа; в конце концов, его самопереживание уже не поспевает за его жизнью, превращения постепенно приобретают кинематографический темп, картины дрожат и мелькают в непрерывной смене. Те, кто воображают, что знают его — друзья его более раннего возраста, увязшие в своих науках, убеждениях, системах, — с каждой встречей все явственнее чувствуют пропасть, отделяющую его от них. С испугом подмечают они в его лице новые, юношеские черты, ничем не напоминающие прошлое; и он сам в своей вечной изменчивости готов видеть призрак в своем прежнем облике, когда его «смешивают» с профессором Базельского университета Фридрихом Ницше, с этим ученым старцем, которым — он с трудом вспоминает об этом — он был двадцать лет тому назад, — с такой решительностью он отжил свое прошлое, так безжалостно отбросил все, что оставалось у него от прежних рудиментов и сентиментов; отсюда его ужасающее одиночество в последние годы. Все связи с прошлым порваны, а для того, чтобы закреплять новые отношения, слишком стремителен темп его последних лет, ею последних превращений. Будто пулей пролетает он мимо людей, мимо явлений; и чем более он приближается к самому себе — даже если это лишь кажущееся приближение, — тем пламеннее его жажда снова потерять себя. И все решительнее становятся эти самоотчуждения, все резче скачки от утверждения к отрицанию, электрические переключения внутренних контактов; он сжигает себя в непрестанном самоотрицании, путь его — путь всепожирающего огня.
Но по мере того, как эти превращения ускоряются, они становятся все насильственнее, все мучительнее. Первые «преодоления» Ницше — это лишь отказ от детских, отроческих верований, заученных в школе мнений авторитетов; их легко было сбросить, как высохшую змеиную кожу. Но, чем глубже становится его психология, тем более глубокие слои своего внутреннего вещества приходится ему вскрывать; чем более пронизаны нервами, пропитаны кровью его убеждения, чем больше в них его собственной плазмы, тем больше требуется от него решимости, готовности к страданию, к насильственной потере крови: он становится «собственным палачом», Шейлоком, вонзающим нож в живое мясо[121]. В конце концов самовскрытия достигают последних глубин чувства; операции становятся опасны; ампутация комплекса Вагнера — одно из самых болезненных, почти смертельных вскрытий собственного тела, затронувшее область сердца, почти самоубийство, и в то же время, в своей неожиданной жестокости, как бы убийство на почве садизма: в любовном объятии, в мгновение самой интимной близости познает и умерщвляет его неукротимый инстинкт правды самый близкий, самый любимый образ. Но, чем мучительнее, тем лучше: чем больше крови, чем больше боли, чем больше жестокости потребовало от Ницше такое «преодоление», тем сладостнее упивается его честолюбие испытанием воли. Неумолимый инквизитор, неумолимо допрашивает он свою совесть о каждом своем убеждении и переживает испански–мрачное, сладострастно–жестокое наслаждение при виде бесчисленных аутода–фе, пожирающих убеждения, которые он признал еретическими. Постепенно влечение к самоуничтожению становится у Ницше страстью: «Радость уничтожения сравнима для меня только с моей способностью к уничтожению». Из постоянного превращения возникает страсть противоречить себе, быть своим собственным антагонистом: отдельные высказывания в его книгах как будто намеренно сопоставлены так, чтобы одно опровергало другое; страстный прозелит своих убеждении, каждому «нет» он противопоставляет «да», каждому «да» — властное «нет» — бесконечно растягивает он свое «я», чтобы достигнуть полюсов бесконечности и электрическое напряжение между двумя полюсами ощутить как подлинную жизнь. Стремление постоянно убегать от себя и постоянно настигать себя — «душа, убегающая от самой себя и настигающая себя на самих дальних путях» — в конце концов развивает в нем неимоверное возбуждение, которое становится для него роковым: едва достигла форма его существа последних пределов, как напряжение духа разрядилось: прорывается пламенное ядро, исконная сила демонизма, и необоримая стихия единым вулканическим напором уничтожает величественный ряд образов, созданный творческим духом из его плоти и крови, и погружает его в бездну бесконечности.