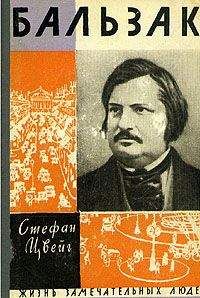Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
Время от времени зайдет чужой человек, любопытный посетитель, взглянуть на забытого поэта, уже ставшего легендой. К старой городской башне прислонился домик, и там наверху, в мезонине с зарешеченным окном, из которого, однако, открывается широкий вид на окрестности, – тесный приют Скарданелли. Добрый столяр провожает посетителя наверх к маленькой двери: за ней слышится речь, но в комнате нет никого, кроме больного, непрерывно бормочущего что-то в высоком стиле. Будто псалмы, льется с его уст этот смятенный поток слов без формы и смысла. Иногда помешанный садится за рояль, играет часами, но не находит связи между звуками, не может извлечь осмысленного звучания; раздаются только мертвые ряды аккордов и с фанатическим упорством повторяется одна и та же скудная и краткая мелодия, ее сопровождает призрачный стук запущенных ногтей по расстроенным клавишам. Но все же изгнанник духа пребывает постоянно в стихии звука, ритма: как в эоловой арфе звенит ветер, пролетая над отверстием выдолбленного тростника, так и здесь сквозь выжженный мозг тянется вечный звон стихии.
Наконец, объятый невольным трепетом, стучится подслушивающий посетитель в дверь; глухое, встревоженное, испуганное «войдите» раздается в ответ. Худощавый человек, похожий на канцеляриста из рассказа Гофмана, стоит посреди маленькой комнаты; хрупкий стан почти не согнулся под бременем лет; волосы, уже поседевшие и поредевшие, падают на красиво очерченный лоб. Пятьдесят лет страданий и одиночества не смогли до конца разрушить благородство этого некогда юношеского облика; острая линия, отточенная лезвием времени, обрисовывает чистый силуэт от нежного изгиба висков до сурово очерченных губ и округлого подбородка. Изредка вздрагивают нервы, внезапная судорога пробегает по измученному лицу, и все тело, вплоть до костлявых кончиков пальцев, словно пронизывает электрический ток. Но до ужаса неподвижным остается некогда столь мечтательный взор: призрачно немой и невидящий, как у слепого, покоится его зрачок под веками. И все же мысль и жизнь еще тлеют и вспыхивают где-то в этом блуждающем призраке: бедный Скарданелли уже сгибается с преувеличенной угодливостью в бесконечных поклонах и реверансах перед высоким гостем. Поток почтительных обращений – «Ваше высочество! Ваше святейшество! Ваше преосвященство! Ваше величество!» – взволнованно срывается с его уст, и с подавляющей предупредительностью провожает он гостя к подобострастно придвинутому стулу. Беседа не клеится: беспокойный и смятенный, он не в силах удержать нить мысли и логично ее развивать; чем судорожнее старается он говорить связно, тем больше запутывается в клубке слов и непонятных звукосочетаний, причудливых и фантастических, уже не принадлежащих немецкому языку. Он еще понимает с трудом некоторые вопросы, еще мерцает в омраченном мозгу луч просветления, когда называют имя Шиллера или вообще упоминают образы былого. Но если кто-нибудь неосторожно обмолвится именем «Гёльдерлин», Скарданелли приходит в гнев и ярость. Если беседа затягивается, больной постепенно становится беспокойным и нервным: напряжение мысли и попытки сосредоточиться слишком мучительны для его усталого мозга; посетитель прощается, и до самой двери сопровождают потрясенного гостя поклоны и реверансы.
Но удивительно: в этом лишенном рассудка человеке, которого нельзя одного выпустить на улицу (потому что гордость образованного общества Германии – господа студенты издеваются над несчастным и пьяным улюлюканьем доводят его до бешеных вспышек), среди пепла разрушенного духа до последнего дня сохраняется горящая искра: это поэзия. Только одна она продолжает жить – что достаточно символично – и после его духовного заката. Скарданелли сочиняет стихи так, как сочинял их, может быть, в детстве Гёльдерлин. Часами он исписывает целые листы стихами и фантастической прозой – Мёрике, растерявший их, не удостоив внимания, рассказывает, что ему принесли целые бельевые корзины этих рукописей; и если посетитель просит у Скарданелли листок на память, он немедленно садится и пишет уверенной рукой (и почерк не поддался разрушению) по желанию стихи о временах года, или о Греции, или «на отвлеченные темы» – например:
Внизу он подписывает какую-нибудь фантастическую дату (едва дело касается реальных вещей, разум его покидает) и «с глубоким почтением Скарданелли».
Эти строки, созданные угасшим рассудком, стихи Скарданелли, нисколько не похожи на стихотворения сумеречных дней, часов пурпурного сумрака, на широкошумные оды «ночных песен»: в них совершается таинственный возврат к первоначальным формам. Ни в одном из этих стихотворений он не прибегает к свободным ритмам гимнов, созданных у порога безумия; все они рифмованы (нередко только по принципу ассонанса) и написаны правильными строфами, все требуют короткого дыхания в противоположность прежним широким и бурным потокам. Как будто его нетвердый, неустойчивый дух боится в свободной оде соскользнуть в буйный водоворот ритма и опирается на рифму, как на костыль. Ни одно из этих стихотворений нельзя назвать разумным и ясным, и в то же время ни одно из них не назовешь бессмысленным; это уже не поэтическая, а только звуковая форма, лирически вторящая какому-то неопределенному смыслу, который поэту не удается установить логически. Но все же эти стихи умалишенного, стихи Скарданелли, – еще стихи, в то время как творчество других душевнобольных поэтов – например, стихи Ленау, сочиненные в Винентальской больнице, – представляют собой пустое нагромождение рифм («Но швабы слабы, слабы, слабы»). В стихах Скарданелли еще клубятся непроницаемыми тучами сравнения, еще звучит подчас с потрясающей искренностью вопль души, как в этом бесподобном четверостишии:
Это похоже скорее не на стихи умалишенного, а на стихи поэта-ребенка, большого поэта, впавшего в детство; в них есть наивность и непринужденность детского мироотношения, но нет ничего бессвязного или чудовищного, каких-нибудь нелепых преувеличений. Как в букваре, следует картинка за картинкой, и с наивностью шуточного стиха рифмуются возвышенные строки. Может ли семилетний ребенок воспринять пейзаж чище и простодушнее, чем Скарданелли, когда он пишет:
Без тени задумчивости, вызванные лишь случайным дуновением чувства, подобные музыкальной импровизации, проносятся картины – игры блаженного ребенка, для которого в мире существуют только цвета и звуки, и зыбкая связь форм. Как в часах со сломанными стрелками продолжает бессмысленно тикать механизм, так Скарданелли-Гёльдерлин творит в пустое пространство погасшего мира: дышать значит для него творить. Ритм пережил в нем рассудок, поэзия – жизнь. Так исполняется в трагическом искажении самое глубокое желание его жизни – быть только поэтом, всем существом всецело раствориться в поэзии. Человек умирает в нем раньше, чем поэт, рассудок раньше, чем мелодия; смерть и жизнь воплощают в его судьбе то, чего он сам некогда пророчески пожелал как истинного конца истинного поэта: «Сгорая в огне, понести наказанье за то, что огонь укротить не смогли мы».