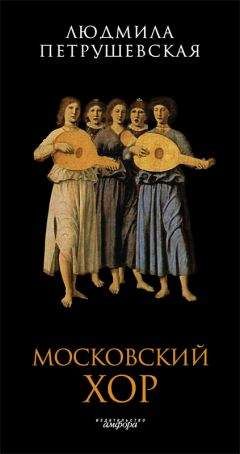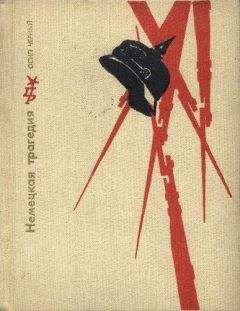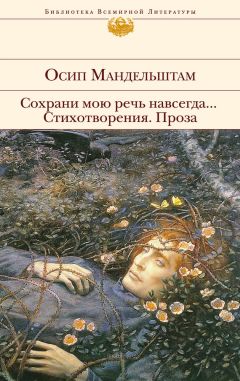Осип Черный - Мусоргский
– Уж если им так вздумалось, пускай учат сами. Когда приготовят, посмотрю, что из этого вышло. Но должен предупредить вас: самое большее, что я мог бы предоставить, это две репетиции.
Таким образом, нехотя, он все же согласие дал.
Когда Кондратьев сообщил певцам, они тут же отобрали сцены – в корчме и две польские: в комнате у Марины и у фонтана; тут же распределили роли: Петров – Варлаам, Леонова – хозяйка корчмы, Платонова – Марина, Комиссаржевский – Самозванец. Кроме «Бориса Годунова», Кондратьев взял для своего бенефиса картины из «Лоэнгрина» и «Фрейшюца», но они шли как бы для заполнения программы. Все понимали, что гвоздем вечера будет «Борис Годунов».
Артисты сознавали свою ответственность перед русским искусством: если после стольких мытарств «Борис» провалится, ему долго потом не увидеть сцены.
Леонова и Петров рассказывали Мусоргскому, что происходит в театре. Он делал вид, будто относится ко всему философски, но в глазах его нетрудно было прочитать напряженное ожидание и душевную муку. Каждый раз, когда заходила речь о «Борисе», он волновался ужасно.
Как-то вечером Мусоргский забрел к Стасову размягченный и добрый. Желая скрыть от хозяина дома, что по дороге он заглянул в трактир и немного для храбрости выпил, Мусоргский уселся в темном углу.
Стасов шагал, как обычно, по комнате, размышлял вслух о том, как отнесется к «Борису» публика. Чем больше Мусоргский слушал, тем теплее становилось у него на душе, тем смелее он смотрел на завтрашний день. Бывали такие часы, когда после безнадежности и тоски приходила снова уверенность.
– Мне суд не страшен, Владимир Васильевич, – сказал он. – Я в музыкальную даль смотрю бодро. Вот говорят, будто я попрал все законы, а я говорю себе: «То ли еще будет!» Сюжетец, который вы мне подкинули, зреет. Кое-что пишется…
Он решил, что сказал слишком много, и остановился.
От Стасова Мусоргский направился к Опочининой. Ему нужна была поддержка. Делая вид, будто он без колебаний примет все, что с ним ни случится, он чувствовал себя после месяцев напряженного ожидания измученным и почти больным.
Опочининой дома не оказалось. Мусоргский сиротливо постоял в столовой, побродил по комнатам, которые еще недавно были родным его домом, подержал в руках фарфоровую собачку, которую любила Надежда Петровна, и побрел дальше.
Так нужно было ему чье-либо общество, что, не придумав ничего лучшего, он направился к Кюи. В последнее время отношения между ними стали более натянутыми и холодными, и виделись они теперь редко.
Кюи, установивший для себя твердый распорядок жизни, успевавший и романсы писать, и фортификацию преподавать, и статьи готовить для «Санкт-Петербургских ведомостей», смотрел на Модеста, как на человека совершенно бестолкового. Не отвергая его таланта, он считал, однако, что талантом своим Мусоргский распоряжается плохо.
Встретил Кюи его приветливо, но, заметив, что Модест чуть навеселе, взял с ним тон иронический. Мусоргский с грустью подумал, что в неподходящую минуту его сюда принесло. Другой бы на месте Кюи понял, как он страдает и как жаждет поддержки. Ирония собеседника лишь оскорбила Мусоргского, и он замкнулся. Сев в качалку и покачиваясь с деланно беззаботным видом, он стал говорить о каких-то пустяках.
– С «Борисом» как – нового ничего? – вспомнил Кюи.
– Будто бы собираются ставить. Да ведь я к этому равнодушен. «Борис» для меня – прошлое, я другим теперь занят.
Напускная его беспечность разозлила Кюи. Он не стал расспрашивать ни о новой работе, ни о том, кто и когда собирается ставить «Бориса». Когда Мусоргский собрался уходить, Кюи не стал его удерживать.
– Захаживайте, Модест, – произнес он небрежно. – Что-то вы стали редко бывать.
Мусоргский долго еще бродил по холодному Петербургу. Все кругом было замерзшее, застывшее, неуютное; ни одного лица знакомого. Только мысль об Осипе Петрове, дедушке русской оперы, хлопотавшем за его «Бориса» и рассказывавшем ему всё, утешала немного.
Мусоргский надумал было пойти к нему на Подьяческую. Но, дойдя до канала, остановился в нерешительности. Он озяб, устал; наверно, не застанет Осипа Афанасьевича дома, да и Анны Яковлевны нет; опять придется пережить огорчение.
Он подумал: «Уж эти меня не подведут, уж это вернейшие люди, светлой души!» И с этой немного успокоившей его мыслью побрел назад.
XIII
В вечер бенефиса театр был набит до отказа. Так уж в последние годы повелось, что на русскую оперу стали ходить с охотой. Тем более, сегодняшний вечер заключал в себе нечто из ряда вон выходящее: молва о «Борисе Годунове» обошла весь Петербург. Поклонники новой музыки – молодежь, студенты, демократическая интеллигенция – ждали возможности узнать наконец, что же это за опера. Хулители «могучей кучки» тоже ждали этого случая: в полном составе они явились в Мариинский театр. Язвительные, придирчивые, недоброжелательные, жаждущие нанести удар по противнику, они критически посматривали по сторонам, недовольные тем, что публика слишком оживлена, что в театре царит нездоровое возбуждение, что из такой заведомо плохой оперы крикуны пытаются сделать событие исключительное.
Сцены из вагнеровского «Лоэнгрина» и веберовского «Фрейшюца» прошли, как им и положено было, хорошо. Бенефицианта и всех участников вызывали, занавес поднимался и падал. Главное было впереди, и все сознавали, что из-за него-то и затеян весь вечер. С каждой картиной нетерпение возрастало.
Когда дошла очередь до «Бориса Годунова», атмосфера в театре была уже накалена.
Начали со сцены в корчме. Все было необычно: фигуры беглых монахов Варлаама и Мисаила, послушника-беглеца, обстановка корчмы и сама хозяйка, разбитная, бывалая женщина. Каждая фраза была напоена простой, характерной и до предела народной интонацией. Одних это привело в восторг, других заставило вспомнить все, что говорилось о бедности русской песенной интонации.
Автор вывел на сцену новый мир, с его переживаниями, со всеми оттенками поведения каждого человека. Новыми были и характерность, и юмор сцены, и портретная сила изображения. Баба-корчмарка, поющая «Сизого селезня», могучее «Как во городе…», однообразно-заунывное «Ехал ён» – все воспринималось как небывало смелое.
Сцена прошла при напряженном внимании театра. Успех был неслыханный. Артисты то и дело появлялись перед занавесом, но их появление не утоляло чувств возбужденного зала.
Мусоргский, сидевший в ложе, нервно тер руки и из глубины ложи смотрел в одну точку. Он был в тумане и на пылкие реплики друзей не отзывался. Волнение зала доходило до него словно издалека, и только об артистах, спасших «Бориса Годунова», он думал с особенной, вызывавшей слезы нежностью.