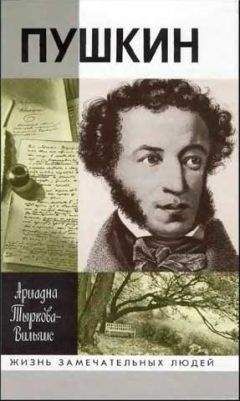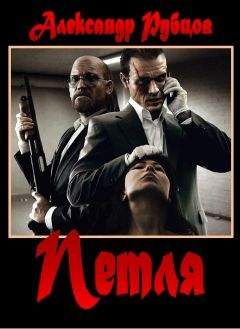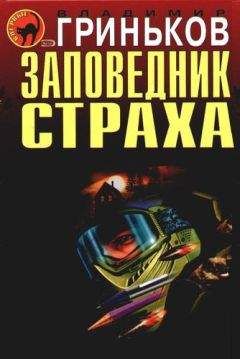Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824
Батюшков писал Вяземскому: «Пушкин пишет прелестную поэму и зреет» (9 мая 1818 г.). Из Неаполя он просил Тургенева прислать ему «Руслана и Людмилу», очевидно, думая, что она уже кончена (1 марта 1819 г.). О том же дважды просит из Москвы Тургенева И. И. Дмитриев, не особенно долюбливавший литературную молодежь. Тургенев с самого начала нетерпеливо следит за ростом поэмы, корит и журит «племянника» за лень и получает от него лукавый ответ:
А труд и холоден и пуст.
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.
Это озорство, зубоскальство. На самом деле Пушкин уже тогда знал прелесть труда.
Чистовой список поэмы не сохранился, как не сохранился и ее план, если даже он и был. Среди черновиков есть два коротких конспекта:
«Людмила, обманутая призраком, попадается в сети и усыпляется Черномором. Поле битвы. Руслан и голова. Фарлаф в загородной даче. Ратмир у двенадцати спящих дев (Руслан, Русалки, Соловей Разбойник). – Руслан и Черномор. Убийство».
Спустя несколько страниц другой план:
«Источник воды живой и мертвой. – Воскресение. – Битва. – Заключение».
Первые строчки поэмы написаны в Лицее, в карцере на стене. Но по-настоящему сложилась поэма в самом процессе работы. В черновике картины идут не в той последовательности, как в окончательной редакции. В черновике после второй песни записан отрывок из первой. Отрывки четвертой песни идут после шестой, даже после третьей. Кажется, что отдельные места и строфы врывались, перегоняя и тесня друг друга. Иногда это запись отдельных стихов, точно поэт боялся, что ускользнут теснящиеся в его голове строфы. Иногда он упорно ловил недающуюся форму, слово, образ. Отдельные картины, в особенности описания природы, стоили ему много труда. Долго не давался в IV главе пейзаж вокруг волшебного замка, к которому подъезжает Ратмир:
Он ехал (меж угрюмых скал)
мимо черных скал
(Пещер угрюмых) (столетних)
Угрюмым бором осененным грозою над Днепром.
Через две страницы опять:
Он ехал (между) меж (лесистых)
мохнатых скал
и взором
Ночлега меж (кустов) дерев искал.
И наконец:
Наш витязь между черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.
Так же не сразу далось описание замка, с его роскошными банями, с его красавицами, которые манили и тешили Ратмира. Со страницы на страницу (52, 54, 64), чередуясь с отрывками других произведений, идет описание бани, первый раз до приезда Ратмира, помимо него, на той же странице, где:
Я люблю вечерний пир.
Тут уже намечена общая картина – фонтаны, девы, мягкие ткани, русская баня.
На 54-й странице сбоку записано отрывисто, наскоро:
Уж (ха) Ратмир
(Ратмир) ( )
(Голова, ложе из цветов)
И брызжут хладные фонтаны.
И (прелестные)
Над (ложе)
Хан обоняет запах роз
Ратмир лежит и
Зари берез.
Часть этих подробностей Пушкин выбросил, другие развил и создал из них законченную полную красок картину сладострастия.
Он много раз переписывал, перечеркивал, восстановлял даже дружеское, шутливое, казалось, мимоходом брошенное, обращение к Жуковскому.
Музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель
Прости мне, Северный Орфей…
Четыре раза переписано начало стиха: «Певец таинственных видений». Наконец, Пушкин в последней редакции оставил в этом обращении только 11 стихов.
IV глава тоже стоила немало труда. С законченной четкостью сразу прозвенела только песня:
Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный…
Но и она сначала начерно отмечена на странице, которая вся исчерчена рисунками, женскими головками, перечеркнутыми стихами, отдельными строфами из первой главы. Между этих беспорядочных записей отмечен, только в обратном порядке, первоначальный ритм «Песни дев»:
Укройся в терем наш отр.
Уж поздно м…
От…
Ложится в…
Сердечно.
Раздался голос, зазвенели слова, запела музыка, и от нее родилась вся глава. Через несколько листов, разрабатывая подробности, Пушкин повторил эти начальные звуки: «От волн поднялся ветер хладный. Укройся в терем наш отрадный…»
Трудно сказать, потому ли эта песня далась ему легче, чем описания, что был он в те годы прежде всего песенником, или потому, что в ней звучало и пело, звало и манило призывное любовное томление. Молодой Пушкин был полон им. И тем удивительнее, что в любовных сценах он обуздал свое воображение, с суровостью художника, ищущего плавности, старался не соскользнуть в соблазнительность эротизма. Сколько раз в пятой главе начаты, перечеркнуты, снова начаты и снова перечеркнуты отрывистые строчки, отдельные слова, концы, начала строф, где описана спящая Людмила, запутавшаяся в сетях Черномора:
И грудь… и плечи
Плечи и ноги обнажены…
И ноги нежные в сетях
Обнажены
И прелести полунагия
в … запутаны сетях.
Варианты этой сцены занимают две страницы. В окончательном тексте чувственное изображение обнаженной княжны, окованной волшебным сном, превратилось в романтическое описание:
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее — но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет…
Возможно, что советы Карамзина, Жуковского, А. И. Тургенева сдерживали яркость любовных сцен, заставляли считаться с цензором, с читателем, со стыдливостью читательниц. Но так настойчиво заменять волнение крови молодое волнением чувств, чувственность – негой тела и души могло только эстетическое чутье самого Пушкина. Парни, Грегуар и Вольтер, еще недавно владевшие им, могли толкать Пушкина на чувственные картины. Тема дает для этого достаточно поводов. Влюбленный Руслан скачет в Киев, держа в объятиях усыпленную чарами жену-невесту. Пушкин сдержанно говорит: «И в целомудренном мечтанье, смирив нескромное желанье».
В конце четвертой главы было 13 стихов, гривуазный реализм которых действительно напоминал французскую эротику XVIII века. («К ее пленительным устам прильнув увядшими устами…» и т. д.) Пушкин выбросил их из второго издания.
Если вспомнить нравы той поры, то, как щеголяла окружавшая его молодежь кутежами и буйным волокитством и непристойными выражениями и в разговорах и в письмах, и как он сам не скрывал от своих старших целомудренных друзей (Жуковского и А. Тургенева) ненасытной скифской жадности к чувственным наслаждениям, то тем изумительнее в этом бешеном сорванце (слова Вяземского) раннее поэтическое чувство меры. Может быть, и не только поэтическое. Вкрапленные в поэму личные автобиографические отступления отражают не вакхический призыв – Эван, Эвоэ, дайте чаши, несите свежие венцы, – не правдивое признание – «бесстыдство бешеных желаний», а какое-то иное настроение. Пушкин начал «Руслана и Людмилу», когда ему было семнадцать лет, и кончил, когда было двадцать. В эти годы даже более холодные натуры волнуются каждым хорошеньким личиком. А Пушкин был в состоянии постоянной влюбленности, во власти менявшейся, но пленительной женской стихии. Грация princesse Nocturne сменялась купленными прелестями ветреных Лаис. Но мало-помалу сквозь эту первоначальную жадность и неразборчивость начали проступать иные искания и желания. О том, как они проявились в его петербургской жизни, в кого воплотились, у нас нет сведений, но в поэзии они сказались, окутав первую его поэму весенней дымкой влюбленности в вечно женственное. Пушкин в посвящении так и написал: