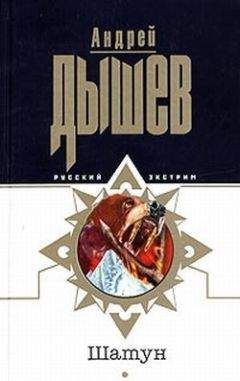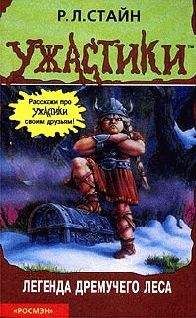Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...»
Друзья прислали Жуковскому свои замечания. Замечания Батюшкова, которые Жуковский почти все принял, относились в основном к первой половине стихотворения. «Вторая половина, — писал он Тургеневу, — вся прелестна, и рука не подымется делать замечания. Здесь Жуковский превзошел себя: стихи его — верьте мне! — бессмертные».
В январе 1815 года послание «Императору Александру» было выпущено в виде небольшой книжки с виньеткой, гравированной художником Николаем Уткиным.
Жуковский начал новое большое стихотворное произведение — «Певец в Кремле». «Певец во стане, — писал он Тургеневу, — предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на кремлевских развалинах». Он начал это стихотворение в Черни у Плещеева, продолжал в Долбине и потом в Москве. Эта вещь подвигалась с трудом, он никак не мог найти верный тон: творческий подъем вдруг пошел на спад. Виной этому были, очевидно, новые жизненные неурядицы. Екатерина Афанасьевна по каким-то причинам вдруг запретила Жуковскому ехать в Дерпт вместе с ними — это было для него неожиданностью. Он написал ей письмо и сам решил с ней поговорить.
«Мы говорили, — писал он Маше, — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею: ты нас совсем разлучил».
Протасовы и Воейковы собирались уезжать. Жуковский не знал даже дня их отъезда. Чтобы не упустить, может быть, последней возможности разговора с Екатериной Афанасьевной, он в середине января 1815 года выехал в Москву.
«Покрытая пожарным прахом» — по словам Жуковского — древняя столица начала отстраиваться, но вид ее был еще печален. Однако «пожарный прах» не только грусть вызвал в душе Жуковского. «Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом слав ы, — писал он Тургеневу, — в которую я въехал с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия». Ведь только Жуковский мог так смело назвать пожар Москвы «костром свободы» — в послании «Императору Александру». Об этой Свободе — освобождении родины от врага — так писал он:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЕВЕЦ В КРЕМЛЕ» С ГРАВЮРОЙ С. ГАЛАКТИОНОВА ПО КАРТИНЕ Ф. АЛЕКСЕЕВА.
И в пепле мщения Свобода ожила,
И при сверкании кремлевского пожара,
С развалин вставшая, призрак ужасный, Кара
Пошла по трепетным губителя полкам,
И, ужас пригвоздив к надменным знаменам,
Над ними жалобно завыла: горе! горе!
И Глад, при клике сем, с отчаяньем во взоре,
Свирепый, бросился на ратных и вождей…
Тогда помчались вспять; и грудами костей,
И брошенными в прах потухшими громами.
Означили свой след пред русскими полками.
И Неман льдистый мост для бегства их сковал…
Замоскворечье выгорело полностью. Обугленные кирпичные трубы еще торчали из руин, но кое-где уже весело желтели новые стены, Арбат и Пречистенка тоже были полностью истреблены пожаром: на них осталось два-три дома с закопченными каменными стенами и с окнами, забитыми досками. Только восемь домов и меньше половины деревьев уцелело на Тверском бульваре. В Кремле взорвана была часть стен и повреждены некоторые башни, колокольня Ивана Великого, арсенал и Грановитая палата. Прогорели купола соборов. Камни и бревна от взрыва разлетелись так, что сильно завалили реку Неглинную. На сохранившихся почти полностью улицах — Кузнецком мосту, Мясницкой, Малой Дмитровке, Лубянке — жизнь шла уже своим обычным порядком. Жуковский остановился у Карамзина на Малой Дмитровке.
У Карамзина он рассчитывал прожить не более двух недель — до приезда Протасовой с семьей. И вот они приехали. Екатерина Афанасьевна глядела мрачнее тучи, Воейков светился самодовольством. А Маша покашливала и старалась скрыть свое уныние. Жуковскому почти не удалось поговорить с ней: мать не спускала с нее глаз. В отчаянии Жуковский пишет Тургеневу: «Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен, и нет никакого вознаграждения… Мы не можем подойти друг к другу свободно… Теперь вопрос: что же будет с нами, — с нею и со мной? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего!»
В конце января все они уехали в Дерпт. Жуковскому было милостиво велено «ждать». Но — чего? Он был в недоумении: остаться в Москве или ехать в Петербург? До начала марта Жуковский жил в Москве, не зная, что предпринять. 1 февраля 1815 года он сообщил Тургеневу, что проживет еще «дней десять» в Москве, а 4 марта: «Еду прямо в Дерпт, где пробуду сколько возможно менее, потом — в Петербург».
В письмах к Тургеневу он просит его обратиться к императрице: «Если можно, представь мое положение государыне», — пусть-де она напишет Екатерине Афанасьевне «такое письмо, в котором бы более убеждала, а не приказывала… я знаю, что мать сама устала противоречить и рада будет на чем-нибудь опереться». Так «сердечные» дела Жуковского зашли в тупик.
Тургенев продолжал настойчиво призывать его в Петербург. Жуковский и сам чувствовал, что ему ничего другого не остается: из Петербурга всегда можно съездить в Дерпт и повидать Машу. А там кто знает — может, все как-нибудь изменится… Надо быть поблизости.
В Москве, еще не окончив «Певца в Кремле», он снова стал думать о «Владимире», эпической поэме. Карамзин одобрил этот его замысел и разрешил даже сделать выписки из своей еще не опубликованной «Истории государства Российского». «Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы», — говорит Жуковский в письме к Тургеневу. «Но как еще много надобно накопить материалов!» — добавляет он. В Москве трудно было добыть что-нибудь: пожар 1812 года пожрал все крупные библиотеки. «Владимира» можно было продолжать только в Петербурге. В Петербурге же и Александр Тургенев начал хлопоты по изданию его двухтомных сочинений… Итак — в Петербург! Все сложилось так, что ехать нужно именно туда. Завернуть в Дерпт, повидать Машу, которая выехала из Москвы не совсем здоровой, и — к друзьям.
7 марта 1815 года Жуковский сел в кибитку. Зазвенел колокольчик. Снег брызнул из-под полозьев.
…На него надвигалась другая жизнь — неясной, томительно-тревожной тучей наплывал сквозь холодные черные леса Петербург. С каждой верстой Жуковский все меньше думал о Москве, все глубже уходил душой в будущее, — он видел себя у Невы, на Невском проспекте, и всё в каком-то странном одиночестве, словно он один в городе. Смешивались, входили друг в друга Петербург и Дерпт, которого он не знал — он видел его каким-то… петербургским. Он заснул, полулежа на сиденье. И опять — Нева, а на противоположном берегу, справа от угрюмой крепости, неподвижная фигура в трепещущем от ветра белом платье. Крикнуть — не услышит… Маша? Да, это она. А вот часового в этой тишине слышно за тысячи верст: «Слу-шай!»