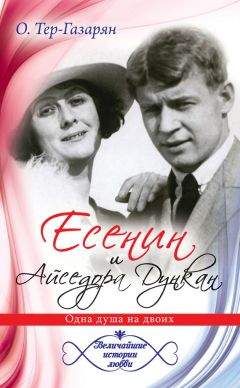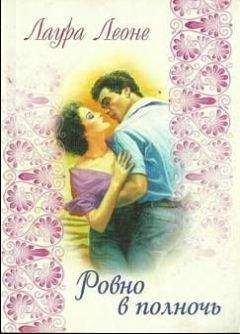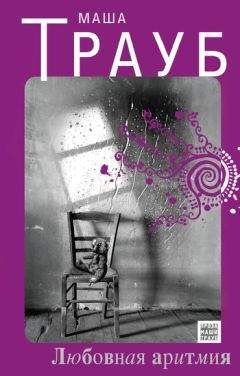Айседора Дункан - Моя жизнь. Встречи с Есениным
Лоэнгрин привез с собой на Пам-Бич американского поэта Перси Мак-Кея. Однажды, когда мы все сидели на веранде. Лоэнгрин составил план будущей школы, согласно моим идеям, и сообщил, что успел купить Медисон-Сквер-Гарден в качестве подходящего участка для театра.
Несмотря на мой энтузиазм перед всем планом в целом, я не была склонна приступать в разгар войны к такому обширному проекту. Мой отказ привел Лоэнгрина в такое раздражение, что с той же порывистостью, с какой он покупал Гарден, он отказался от его покупки по нашем возвращении в Нью-Йорк.
Глава тридцатая
В начале 1917 года я выступила в «Метрополитенопера». В те дни я верила, как и многие другие, что надежды всего мира на свободу, возрождение и цивилизацию зависят от победы союзников в войне. Поэтому каждый концерт я заканчивала исполнением «Марсельезы», в течение которой все зрители стояли.
Тот день, когда пришла весть о революции в России, наполнил всех любителей свободы надеждой и радостью, и вечером я протанцевала «Марсельезу» в подлинно революционном настроении духа, а вслед за ней свою интерпретацию «Славянского марша».
Ту часть, когда в нем раздается царский гимн, я представила в виде угнетенного крепостного под ударами бича.
Эта антитеза и диссонанс танца с музыкой вызвали бурю среди зрителей.
Странно, что в течение всей моей артистической деятельности эти движения отчаяния и восстания привлекали меня сильнее всего. В своей красной тунике я постоянно танцевала революцию и призыв угнетенных к оружию.
В ночь русской революции я танцевала с дикой, неистовой радостью. Сердце мое рвалось в груди за тех, кто сейчас дождался освобождения, а раньше подвергался страданиям и пыткам и умирал за дело человечества. Неудивительно, что Лоэнгрин, наблюдая меня из вечера в вечер из своей ложи, должен был под конец несколько встревожиться и задать себе вопрос, не станет ли покровительствуемая им школа милосердия и красоты грозной опасностью, которая приведет и его, и его миллионы к уничтожению. Но импульсы моего искусства были непреодолимы, и я не могла бы сдержать их даже ради человека, которого люблю.
Лоэнгрин устроил в мою честь празднество в отеле «Шерри». Оно началось с обеда, продолжалось танцами и закончилось обильным ужином. По этому случаю Лоэнгрин подарил мне дивное бриллиантовое ожерелье. Я никогда не стремилась к драгоценностям и не носила их, но Лоэнгрин казался очень обрадованным, когда я разрешила ему надеть бриллианты мне на шею. К утру, когда гости подкрепились изрядным количеством шампанского и у меня самой несколько закружилась голова от удовольствия и опьянения вином, я возымела несчастную мысль научить танцевать танго апашей, — как это я видела в Буэнос-Айресе, — одного красивого юношу, находившегося среди гостей. Внезапно я почувствовала, что мою руку выворачивают железные тиски, и, оглянувшись, увидала рассвирепевшего от ярости Лоэнгрина. Вскоре после описанного случая Лоэнгрин исчез в новом припадке ярости. Он покинул меня с огромным счетом гостиницы и всеми расходами по школе на руках. Я тщетно обращалась к нему за помощью. Знаменитое бриллиантовое ожерелье переселилось в ссудную кассу и никогда уже ко мне не вернулось.
И вот я очутилась беспомощной, без денег в Нью-Йорке в конце сезона, когда нельзя было уже думать ни о каком концерте. К счастью, в моем распоряжении еще имелось горностаевое манто, а также дивный изумруд, купленный Лоэнгрином у сына махараджи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень снят с головы знаменитого идола. Я продала манто известной певице-сопрано, изумруд — другой и наняла на лето виллу на Лонг-Бич. Я поселила там своих учениц в ожидании осени, когда снова станет возможным зарабатывать деньги.
Со своей обычной непредусмотрительностью, раз я имела деньги на виллу, автомобиль и наши ежедневные расходы, — я очень мало заботилась о будущем. Хотя, по сути, я сейчас была без гроша, и сумму, вырученную от продажи мехов и драгоценностей, без сомнения, было бы благоразумнее поместить в солидные акции и облигации, но это ни разу не пришло мне в голову. Все мы провели достаточно приятное лето на Лонг-Бич, принимая, как обычно, множество артистов. В числе наших гостей в течение нескольких недель находился гениальный скрипач Исайи. Наша вилла веселела от звуков его дивной скрипки, весь день оглашавших ее стены. У нас не было студий, но мы танцевали на взморье и устроили специальное празднество в честь Исайи, который радовался, как мальчик.
Но нетрудно себе представить, что, вернувшись в Нью-Йорк после летних удовольствий, я очутилась без гроша денег и, после двух безумных месяцев, подписала контракт на Калифорнию.
Во время этого турне я попала в свой родной город. Как раз перед прибытием туда я узнала из газет о смерти Родена и долго плакала при мысли, что никогда уже я не увижу своего великого друга. При виде репортеров, ожидавших меня для интервью на вокзале в Окленде, я, не желая, чтобы они заметили мои распухшие от слез глаза, закрыла лицо черной кружевной вуалью, что дало им повод на следующий день писать, что я напустила на себя таинственный вид.
Двадцать два года прошло с того дня, как я покинула Сан-Франциско, пустившись в великий искус. Легко себе представить, с каким волнением я возвращалась в свой родной город, в котором землетрясение и пожар 1906 года настолько все видоизменили, что мне все казалось новым, и я едва могла его узнать.
В Сан-Франциско я вновь встретилась с моей матерью, которую не видела в течение нескольких лет, — повинуясь непреодолимой тоске по родине, она отказалась жить в Европе. Она выглядела очень состарившейся от забот. Однажды, завтракая в Клифф-хаузе, я увидала в зеркале наши отражения и не могла не противопоставить мое грустное лицо и изможденную внешность моей матери двум отважным смельчакам, которые почти двадцать два года тому назад пустились в путь с надеждой обрести славу и богатство. Надежды исполнились — почему же результаты оказались такими трагическими? Вероятно, они являются следствием того, что мы живем в самом несовершенном из миров. Может быть, так называемого счастья в нем вовсе не существует. Разве лишь мимолетные его отблески.
В Сан-Франциско я дала концерт в театре «Колумбия». Несмотря на восторги заполнившей зал избранной публики, я упала духом, не найдя в своем родном городе готовности оказать поддержку моему идеалу будущей школы. Здесь была масса моих подражателей и даже несколько подражавших мне школ, которые, казалось, их вполне удовлетворяют: но вместе с тем они, вероятно, считали, что мое искусство, как слишком серьезное, могло стать лишь причиной разных неприятностей. Поэтому творчество всех моих подражателей превратилось в сахарин и приторный сироп, так как они ограничивались лишь той частью моего учения, которую им нравилось называть «гармонической и прекрасной», но пренебрегали всем, что было в нем серьезного, что являлось главной его пружиной и придавало ему настоящее значение.