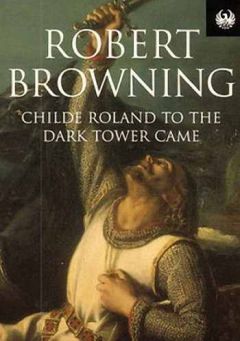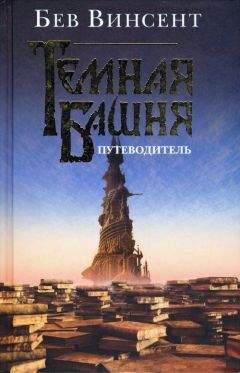Этти Хиллесум - Я никогда и нигде не умру
Воскресенье [11 октября 1942], в перерыве дневного сна. Все сильнее сознаю, что во мне есть некое вещество, или как это назвать, которое ведет свою собственную жизнь и с помощью которого я изображаю окружающие меня вещи, события. Из этого вещества, которым еще недостаточно хорошо владею, которым сама себя снабжаю, я творю множество жизней. Может, во мне пока слишком мало веры в его собственную жизнь. Сама я ничего, кроме пространства, где эта жизнь может развиваться, предложить не могу. И одолжить тоже ничего не могу. Разве что мою ведущую перо руку, чтобы описать эту жизнь с ее собственными представлениями и опытом.
12. 10. 42.Множество впечатлений, как сверкающие звезды, лежат на темном бархате моих воспоминаний.
Возраст души — это что-то другое, нежели официально зарегистрированный возраст человека. Думаю, что душа уже при рождении имеет определенный, не меняющийся больше возраст. Можно родиться с двенадцатилетней душой, можно с тысячелетней, а бывают некоторые двенадцатилетние дети, по которым видно, что их душе уже 1000 лет. Я считаю самой неизведанной частью человека, и прежде всего у западных европейцев, — душу. Думаю, восточные люди живут в более крепком контакте со своей душой. Западный же человек не знает, что с ней делать, и стыдится ее, словно это что-то безнравственное. Душа — это не нрав, это нечто иное. Встречаются люди, у которых и правда много норова, но мало души.
Вчера я о ком-то поинтересовалась у Марии: «Она умна?»
— Да, — ответила Мария, — но только головой.
S. всегда говорил, у Тидэ духовный ум.
Когда между мною и S. иногда заходил разговор о нашей большой возрастной разнице, он всегда парировал: «Кто мне скажет, что ваша душа не старше моей?»
Из меня временами неожиданно вырывается пламенная благодарность, когда, как сейчас, передо мной в ошеломляюще полный рост встают люди и дружбы прошедшего года. Теперь я, что называется, лежачая больная, у меня малокровие, а все равно каждая моя минута наполнена и плодородна. Как же все будет, когда я снова стану здоровой? Я должна всегда с новой силой приветствовать тебя, Господи. Я так благодарна за такую дарованную мне тобой жизнь.
Душа — это нечто, сделанное из огня и горных кристаллов. Она — суровая, ветхозаветная твердь, но и нежная, как жест, которым его кончики пальцев иногда осторожно гладили мои ресницы.
Вечером. И снова мгновения, когда жизнь так обескураживающе тяжела. Тогда во мне одновременно и возбуждение, и беспокойство, и усталость. Днем были моменты очень сильных творческих переживаний. А теперь, как после семяизвержения, состояние опустошенности.
Ничего другого я не должна делать, лишь неподвижно лежать под одеялом и терпеть, пока подавленность и обморочное состояние не оставят меня. Прежде в подобном состоянии я творила сумасшедшие вещи: пила с друзьями или думала о самоубийстве, или ночь напролет рылась в сотне разных книг.
Нужно смириться и с тем, что бывают собственные бесплодные моменты; чем честнее признаешься себе в этом, тем быстрее такой момент пройдет. Надо иметь мужество и для пауз, позволить себе побыть пустым и подавленным. Спокойной ночи, милая облепиха.
Следующим ранним утром [13 октября 1942]. Буйно, как косой, размахиваю вокруг себя маленьким карандашиком, но срубить многочисленные ростки, взошедшие в моей душе, пока никак не удается.
«Иных людей я несу в себе, как бутоны, которым даю распуститься внутри себя. Других несу как нарыв, несу до тех пор, пока он не прорвется и не вытечет гной» (Франс Биренхак).
Предварять. Не нахожу для этого подходящего голландского слова. Вот так со вчерашнего вечера я лежу здесь и, заранее неся под крышу часть страданий надвигающейся зимы, все время понемногу вбираю в себя невзгоды всего мира. Но сразу это не выходит. Сегодня день будет очень трудным. Я останусь тихо лежать, предваряя что-то перед тяжестью всех грядущих дней.
Когда я страдаю за них, беззащитных, не страдаю ли я от своей собственной беззащитности?
Я, как хлеб, разломала свое тело и разделила его между людьми. Почему нет, они ведь были такими голодными, так долго бедствовали.
Постоянно возвращаюсь к Рильке. Удивительно, он был чувствительным человеком и многие свои произведения писал, находясь в стенах гостеприимного замка, и, возможно, живи он в тех обстоятельствах, в которых сегодня живем мы, — он бы погиб. Но не свидетельствует ли о хорошо продуманном расчете то, что утонченный художник в мирные времена, среди благоприятных обстоятельств может безмятежно искать подходящую, красивую форму для выражения глубочайших истин, к которым потянутся люди, живущие в бурные, изнурительные времена, и в которых они найдут готовую оболочку для своих запутанных, не имеющих собственной формы и решения вопросов? Не имеющих потому, что ежедневная энергия этих людей расходуется ими на ежедневные беды. В тяжелые времена они обычно с презрительным жестом выбрасывают за борт духовные достижения искусства из так называемых легких времен (но разве само по себе быть художником не тяжело?) со словами: «К чему это нам сейчас?»
Наверное, это понятно, но так близоруко. И бесконечно обедняет.
Хочется быть пластырем на стольких ранах.
Письма из Вестерборка
3 июля 1943, Вестерборк.
Йопи, Клаас, дорогие друзья, я забралась на мою третью, верхнюю койку, и в вакханалии письма спешу еще раз дать волю своим чувствам. Через несколько дней шлагбаум нашей нелимитированной переписки закроется, я стану «жителем лагеря» и смогу писать лишь одно письмо в 14 дней, которое должна буду отправлять незапечатанным. А мне хотелось бы поговорить с вами еще о некоторых мелочах. Неужели я действительно написала такое письмо, из которого видно, что мужество покинуло меня? Не могу себе этого представить. Бывают, правда, моменты, когда думаешь, что больше не выдержишь. Но, как мы знаем, все постепенно движется дальше, хотя то, что всегда окружало тебя, вдруг преображается и низко нависающее над тобой небо становится черным, сильно меняются жизненные ощущения, и сердце мрачнеет, словно ему уже тысяча лет. Но, поверьте, так не всегда. Человек — странное существо. Нищета, господствующая здесь, поистине неописуема. Мы ютимся в больших бараках, как крысы в сточной канаве. Вокруг много медленно умирающих детей. Но есть и здоровые дети. На прошлой неделе, ночью, здесь прошел эшелон с заключенными. Восковые, прозрачные лица. Я никогда еще не видела на человеческих лицах столько усталости и истощения, как той ночью. Они проходили здесь «фильтрацию»: регистрация, еще регистрация, обыск, проводимый парнями из НСД[49], карантин — само по себе часами длящееся испытание. На рассвете этих людей затолкали в пустые товарные вагоны. Этот эшелон был обстрелян еще в Голландии, поэтому и получилась такая стоянка. А потом еще три дня пути дальше, на Восток. Для больных — на полу бумажные матрацы. А так — голые, закрытые вагоны с бочкой посредине, и в каждом примерно 70 человек. С собой разрешено взять только пакет с хлебом. Я спрашиваю себя, сколько же доедет живых. Мои родители тоже готовятся к такой поездке, если только вопреки всем ожиданиям не решится что-то в Барневельде[50]. Недавно мы с папой немного прошлись по пыльной песчаной пустыне. Он был таким милым, спокойным. Очень дружелюбно, тихо, как бы между прочим сказал: «Вообще-то я бы хотел лучше побыстрее отправиться в Польшу, тогда бы все произошло быстрее, через три дня я был бы мертвым. Нет ведь больше никакого смысла продолжать такое недостойное человека существование. И почему со мной не должно произойти то, что произошло с тысячами других?» Позже мы оба смеялись из-за соответствующего пейзажа, который вопреки лиловым люпинам, полевой гвоздике и грациозным птицам, похожим на чаек, иногда напоминал пустыню. «Евреи в пустыне, нам этот пейзаж знаком с давних времен». Понимаете, это тяжело, когда твой такой дружелюбный маленький папа время от времени впадает в отчаяние. Но это только наши настроения. Бывает и по-другому, и тогда мы оба смеемся и многому удивляемся. Встречаем здесь некоторых своих знакомых, с которыми не виделись в течение долгих лет; юристы, библиотекари и т. п. с наполненными песком тачками, в грязной, грубой спецодежде. Мы мельком смотрим друг на друга и почти не разговариваем. Как-то раз в одну из таких отправочных ночей один молодой печальный на вид полицейский сказал мне: «За такую ночь я худею на пять фунтов, но должен только смотреть, слушать и молчать». И поэтому я тоже не буду слишком много писать. Однако я отклонилась от темы. Хотела лишь сказать, что горе действительно большое, и все-таки поздним вечером, когда день близится к закату, я пружинящими шагами часто бегу вдоль колючей проволоки, и из моего сердца всегда рвется наружу (ничего с этим не могу поделать, это так — и все, это происходит стихийно), что жизнь — это что-то замечательное и великое, что позже мы должны будем построить совершенно новую жизнь, и каждому следующему преступлению, каждой жестокости мы должны противопоставить немного любви и добра, которые сначала надо еще в себе отвоевать. Да, мы страдаем, но от этого мы не должны сломиться. И если мы уцелеем, уцелеем физически и прежде всего духовно, если внутри нас не будет ни ожесточения, ни ненависти, тогда у нас тоже будет право на то, чтобы после войны сказать свое слово. Может, я честолюбива, но мне бы тоже хотелось высказать всем свое очень маленькое словечко.