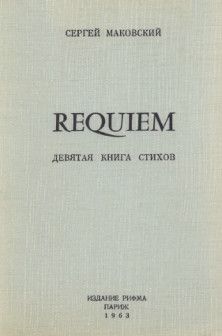Сергей Маковский - Портреты современников
Идее аполлонизма в искусстве гораздо ближе был другой мыслитель, в то время уже терявший свою популярность, — Аким Львович Волынский. Он считался членом редакции «Аполлона» до выхода первой книжки, когда этот неукротимый идеолог аполлонизма (в то время) выступил против всех сотрудников журнала с принципиальным «разоблачением их декадентской порчи. После этого инцидента мне пришлось расстаться с Волынским: он сам поставил условие: или он, или «они»… Его уход не имел последствий. «Аполлонизм», близкий художникам «Мира искусства», примкнувшим к журналу, остался незыблемой идеей журнала и ее целиком восприняла «молодая редакция» с Гумилевым, Кузминым, Гюнтером, Осипом Мандельштамом. Таким образом молодежь сразу оказалась как бы в оппозиции к одному из «столпов» журнала — Вячеславу Иванову. В длинном стихотворении, посвященном Кузмину («Нежная тайна») вспоминается такая строфа:
Союзник мой на Геликоне,
Чужой меж светских передряг,
Мой брат в дельфийском Аполлоне,
А в том — на Мойке — чуть не враг!
«Дионисийство» Вячеслава Иванова, не созвучное больше эстетике «молодых», хорошо выражено в стихотворении «Кормчих звезд» из отдела «Геспериды».
Голоса.
Муз моих вещунья и подруга,
Вдохновленных спутница Менад!
Отчего неведомого Юга
Снится нам священный сад?
И о чем над кущей огнетканной,
Густолистной, ропщет Дионис,
И, колебля мрак благоуханный,
Шепчут лавр и кипарис?
И куда лазурной Нереиды
Нас зовет певучая печаль?
Где она, волшебной Геспериды
Золотящаяся даль?
Тихо спят кумиров наших храмы,
Древних грез в пурпуровых морях;
Мы вотще сжигаем фимиамы
На забытых алтарях.
Отчего же в дымных нимбах тени
Зыблются, подобные богам,
Будят лир зефирострунных пени —
И зовут к родным брегам?
И зовут к родному новоселью
Неотступных ликов голоса,
И полны таинственной свирелью
Молчаливые леса?
Вдаль влекомы волей сокровенной,
Пришлецы неведомой земли,
Мы тоскуем по дали забвенной,
По несбывшейся дали.
Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может, —
И воззвать их не сильна!
Какое исчерпывающее признание! Поэт не может забыть античных богов, хоть не силен «воззвать» (воскресить) их. Попыткой их воскрешения в сущности и была мифотворческая поэзия Вячеслава Иванова. Религиозной жаждой томился и он, как многие христианствующие интеллигенты того времени (журнал «Новый Путь» с Мережковскими и Тернавцевым, «Вопросы Жизни» с Чулковым), но христианином Вячеслав Иванов еще не был.
Запомнился мне разговор на религиозную тему, происходивший в 1909 году втроем с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским (неверующим, религиозной мистики не признающим). Помню обстановку нашей встречи— у Смурова на Невском, куда мы зашли после того, как подали прошение градоначальнику об учреждении Общества ревнителей. На мой вопрос — «Вячеслав Иванович, скажите прямо: вы верите в божественность Христа?» — подумав, он ответил: —«Конечно, но в пределах солнечной системы»… Да, он в Христа верил, но не менее чистосердечно «воззывал» и богов Олимпа, и духов земли, продолжающих открываться избранным в «аполлинитическом сне» и в «дионисийском исступлении», послушных магии творящего слова. Повторяю, символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием. Этой лирической магией повеяло уже в «Кормчих звездах», еще больше ее в «Cor ardens». Тут союзницей Вячеслава Иванова являлась его первая жена, Зиновьева-Аннибал, женщина с очень яркой индивидуальностью, не лишенная литературного таланта, обладавшая неутолимой фантазией. Из писательниц одна из первых она обратила на себя внимание Петербурга своими декадентскими причудами, — дома на литературных сборищах выходила к гостям в сандалиях и в греческом; пеплосе (да еще алого цвета). В литературной богеме много толков было о ее повести «Тридцать три урода». Вячеслав Иванов жену боготворил, ее одну прославлял своим стихотворным эросом. «Cor ardens» — «Любовь и смерть» — посвящен ей, как и знаменитая «Менада»,
Той,
чью судьбу и чей лик
я узнал
в этом образе Менады
«с сильно бьющимся сердцем».
Это к ней обращено и стихотворение «На башне»:
Пришлец, на башне притон я обрел
С моею царицей — Сивиллой,
Над городом — мороком — Хмурый Орел
С Орлицей ширококрылой.
Ей же посвящена и «Любовь» (из «Кормчих звезд») — сонет, из которого вырос венок сонетов (в «Cor ardens»):
Мы — два грозой сожженные ствола,
Два пламени полуночного бора,
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела! —
Мы два коня, чьи держит удила
Одна рука, — одна язвит их шпора,
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.
Мы двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почиет Красота.
Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.
Мы — две руки единого креста.
Мне кажется, что в этих обращениях к жене самая знаменательная строка: «Единых тайн двугласные уста». Думается мне тоже, что на эту строку откликается стихотворение из «Cor ardens» — «Ропот» (хоть эти строфы и не относятся к ней непосредственно). Приведу и его, так как придаю большое значение первому браку Вячеслава Иванова, повлиявшему на весь его духовный рост. Останься Лидия Дмитриевна в живых, возможно, что она сыграла бы в литературной судьбе мужа такую же решающую роль, что З. Н. Гиппиус в судьбе Мережковского.
Итак:
Твоя душа глухонемая
В дремучие поникла сны,
Где бродят, заросли ломая,
Желаний темных табуны.
Принес я светоч иеистомный
В мой звездный дом — тебя манить,
В глуши пустынной, в пуще дремной
Смолистый сев похоронить.
Свечу, кричу на бездорожьи;
А вкруг немеет, зов глуша,
Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа.
Разумеется, маг в тайны посвященный мыслит не по-людски и не по-божьи; он занимает среднее какое-то положение между человеческим ничтожеством и божественной силой, он из тех, кого Евангелие называет «волхвователями и обаятелями». Позже, в «Человеке», вспоминает поэт эту пору своего «безумия», дерзновенной своей ворожбы: