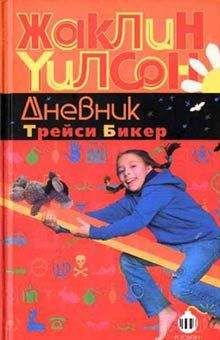Андрей Амальрик - Записки диссидента
3. Распространение. Суд тоже считал его само собой разумеющимся, раз мои книги изданы за границей. В деле, однако, не было ни одного показания, что я передавал их кому-то, в конце концов рукописи «Путешествия в Сибирь», «СССР до 1984?» или «Письма Кузнецову» могли быть похищены у меня и изданы без моего ведома — в этом случае я не мог нести ответственности за их распространение. Не было установлено, действительно ли я давал интервью Кларити и правильно ли он цитирует мои слова. Статья о живописи не была нигде опубликована, обнаруженный у меня экземпляр не обязательно предназначался для распространения. единственно установленным фактом можно считать интервью Коулу, но его распространение имело место в США и в Западной Европе, следовательно, относилось более к компетенции американских и европейских судов.
При выходе из зала Гюзель бросила мне цветы, которые начальник конвоя вырвал и тут же растоптал — видимо, в нем сказалась накопившаяся за два дня злоба. Гюзель подобрала эти цветы, засушила и хранила, пока их не постигла судьба всех засушенных воспоминаний: рассыпаться в прах. Когда нас заталкивали в воронок, я последний раз увидел Убожко.
Глава 14. ТУДА, ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА
Приговор переживается почти как новый арест. На следующий день Швейский сказал, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР; исходя из непризнания суда, сам я решил приговор не обжаловать. На вопрос, сможет ли он передать Гюзель текст последнего слова, он твердо ответил: нет. Оставался последний шанс: свидание с Гюзель. Пока я говорил со Швейским, последнее слово в буквальном смысле слова навязло у меня в зубах. Еще рано утром, подтачивая карандаш заранее припрятанным лезвием, я мелкими буковками переписал свои речи на суде, плотно сложил, обмотал целлофаном и перевязал ниткой — маленькую капсулу я спрятал во рту и держал там все время, чтобы привыкнуть и говорить естественно. Я записал то же самое на обычном листе, который спрятал в брюках — я надеялся, что на обыске перед свиданием найдут этот листок и успокоятся, я нарочно смял его, чтобы сказать, что вовсе не собирался передавать его жене, а захватил как туалетную бумагу, и правда, при вызове к следователю или прокурору, моим врагам, я оставался спокоен, но перед встречей с Гюзель или с адвокатом начинались спазмы кишечника.
Я не мог переписать все незаметно от Жени — хотя осужденных сразу переводят, меня оставили с ним в той же камере. Он мог меня выдать и когда меня водили к адвокату, и теперь, когда меня сразу же вновь вызвали. Двое надзирателей обыскали меня, нащупали бумагу под хлястиком брюк — и с удовлетворенными лицами отнесли в соседнюю комнату. Затем меня ввели в комнату свиданий, и я увидел Гюзель. Женя не выдал!
Нас посадили по обе стороны длинного стола и предупредили, что нельзя целоваться и касаться друг друга, под столом шел сплошной металлический барьер. В конце сидели две надзирательницы, внимательно слушали и смотрели.
Но, по крайней мере, мы видели друг друга и могли говорить — такой разговор всегда начинается немного сумбурно, хочется сказать о чем-то важном, но выскакивают пустяки. Я хотел узнать, не трогали ли Гюзель все эти месяцы, и она рассказала, как за ней перед поездкой в Свердловск ездила черная машина и оттуда кричали: «Гюзель, смотри, хуже будет!» Мне казалось, что у нас впереди еще много времени, свидания дают до двух часов, но не прошло и двадцати минут, как надзирательница сказала: «Свидание закончено!» И хотя мы заспорили, ясно было, что это бесполезно, они уже тянули нас в разные стороны, и тогда, перегнувшись через широкий стол с повисшими на нас надзирательницами, мы с Гюзель обнялись и поцеловались, и, целуя ее, я попытался просунуть ей языком в губы свой целлофановый пакетик — мысль о нем сидела у меня в голове все время свидания, — но Гюзель не понимала меня, она видела в этом поцелуе только прощальную нежность и любовь — и пакетик чуть было не упал на стол, Гюзель, однако, подхватила его и быстро сунула в рот.
— Она что-то проглотила, проглотила! — закричали обе надзирательницы.
— Деточка, проглоти, а потом покакай! — успел я крикнуть, я не сомневался, что изо рта у Гюзель могут вытащить мое послание, но едва ли станут резать живот. Я услышал, как Гюзель спокойным голосом отвечала надзирательницам, что она ничего не глотала, а просто у нее от волнения выпала слюна изо рта.
В течение месяцев я повторял свои речи наизусть, думая, что если у Гюзель их все же отобрали или они растворились в желудке, я снова продиктую их на личном свидании в лагере. Гюзель рассказала потом, что от волнения у нее так пересохло я горле, что она никак не могла проглотить капсулу, наконец, судорожно глотнув, проглотила — и тут же появился врач, и Гюзель действительно испугалась, что ей будут делать кесарево сечение, и стала возбужденно повторять свою версию с вылетевшей слюной, но врач недоуменно и с некоторой усмешкой послушал ее и ушел, сказав, что медицина бессильна что-либо сделать. Продержав Гюзель около двух часов, ее выпустили.
— Мы думали, что тебя арестовали, — бросилась к ней Лена, которая дожидалась со своим другом у тюрьмы. — Ты получила последнее слово? Да? Где оно?
— Оно здесь, — сказала Гюзель, указывая на желудок.
Боясь, что мои речи там долго не выдержат, они бросились в ближайший ресторан. Под удивленными взглядами с соседних столиков, Гюзель смешала водку с портвейном, поперчила и один за другим выпила два стакана и, почувствовав, что ее мутит, нетвердыми шагами пошла в туалет: «С первой попытки ничего не вышло, но я поднатужилась, и меня вырвало еще раз — и, о радость, в раковине лежит неповрежденный пакетик, так хорошо упакованный, что только одно слово растворилось».
Гюзель рассказала еще, что когда они прилетели в Свердловск, в аэропорту кто-то кричал в рупор: «Товарищи, кто на конференцию энергетиков?» — и несколько человек с их самолета, молодых и пожилых, но все с солидными портфелями, бросились к нему. На следующий день Гюзель входит в зал суда — все «энергетики» уже здесь, мы так и прозвали этот суд «конференция энергетиков».
Через три дня меня перевели в другую камеру, необычайно тщательно обыскав и изъяв все записи. «За что сидите? За политику? О, это дело сложное, почти как шмон» — сказал старшина, держался он со мной вежливо. Вскоре молодой человек в штатском возвратил мне мои бумаги, за исключением английских упражнений, отосланных на проверку в Москву. Несколько дней я провел один, а после моей жалобы ко мне посадили полуидиота лет восемнадцати, со сплюснутым затылком, сидел он за изнасилование и привел то же объяснение, что и более здравомыслящие насильники: «Сама дала». Я проводил дни за чтением, делал долгую зарядку по утрам и даже продолжил заниматься боксом, подвешивая и колотя свою подушку, по принципу блатных: бей своих, чтобы чужие боялись.