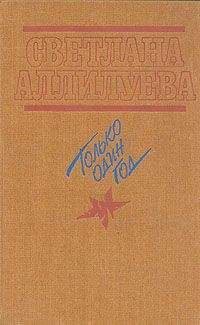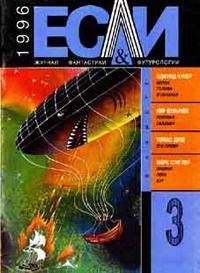Светлана Аллилуева - Далёкая музыка
С 1969 года я жила без гражданства, после того как советское правительство, рассердившись, лишило меня советского гражданства. По правде говоря, мне нравилось жить так — не принадлежа ни одному правительству! Но поскольку теперь у меня была дочь-американка, чья судьба будет связана с Америкой, я чувствовала, что я тоже должна принадлежать ей, и наконец подала прошение.
Я привыкла к американскому образу жизни, у меня были хорошие друзья, мне нравились многие места, где мы бывали и жили, и в то время я не представляла себе, что мы будем жить где-либо еще. Это был год 1978. Я еще не думала о европейской школе-пансионе для моей дочери.
В день экзамена меня сопровождали три свидетеля из Принстона, из штата Нью-Джерси, где я прожила дольше всего в Америке. Это были учительница, соседка и приятельница. После этого настал день появиться в суде по делам Натурализации в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
В зале собралось девяносто таких же подавших прошение, как и я. Зал суда не мог вместить всех сопровождавших — их просили оставаться за дверью. Я стала смотреть на лица вокруг меня, — по преимуществу испанского или восточного происхождения, насколько можно было судить также по выкликаемым именам.
Прозвучало одно польское имя, один человек был из Афганистана. Мое имя «Лана Питерс», уже давно утвердившееся в практике к тому времени, никого не удивило. Для подавляющего большинства здесь английский не был родным языком.
В этот ноябрьский холодный день (20 ноября) они были все тепло одеты, их одежда была опрятной, но дешевой. Люди выглядели очень серьезными, многие привели с собою детей, — наверное, не с кем было оставить. Дети вели себя тихо и тоже были одеты в лучшее воскресное платье. Эта толпа напомнила мне такую же в миссии Сан-Луи Рей в Калифорнии во время Народной мессы: этнический состав ее был таким же. Это были такие же работящие люди, и момент представлял для них огромное значение: натурализация означала для них лучшую работу, лучшую жизнь, постоянство, конец неопределенности. Поэтому они выглядели точно так же, как при получении причастия во время Народной мессы. Для них гражданство США было делом жизни. Никаких сентиментальных слов, столь любимых интеллигентами.
Нас вызывали по одному к столу перед судьей, чтобы подписать документ, по которому нам позже выдадут американский паспорт по месту нашего жительства. Возвращаясь на свое место после подписания бумаги, я видела внимательные, сосредоточенные глаза, оглядевшие меня так же, как они оглядывали каждого. Какое счастье, что не было репортеров! Все было так просто, естественно, с огромным достоинством и без ненужных слов. Судья, пожилой итальянец, в нескольких словах поздравил всех и пожелал нам хорошей жизни в США. Он призвал нас «не сражаться между собою и с другими, кто живет здесь». Он знал, что аудитория не имела времени и не была расположена к обильным словоизлияниям.
Каждый из нас получил маленький флажок — звезды и полосы, такой же, какой дети держат в руках на праздниках, — и мы пошли по домам. Моя приятельница сфотографировала меня с этим флажком в руке возле собора Святого Сердца в Ньюарке. Это была первая Олина учительница из школы Святого Сердца.
Когда я только что приехала в США в 1967 году, кто-то внес предложение в конгрессе, чтобы мне немедленно же было дано гражданство. Я никогда так и не слышала, что случилось с этим предложением. Я получила гражданство через одиннадцать лет, в полном соответствии с американскими законами.
Обычно иммигранты могут просить о натурализации через пять лет, и так делали многие, приехавшие из СССР. Но закон запрещает подавать так скоро всем тем, кто приехал из коммунистических стран или же сам был одно время членом коммунистической партии. Я принадлежала к тем, которые оставались «в карантине» целых десять лет. И тот факт, что я, находясь в партии коммунистов в СССР, никогда не была активной политически, не был оценен по существу. Мое членство в партии было пустой формальностью — каковой оно является для множества людей в СССР. Возможно, что я могла бы попросить какого-нибудь дружественно настроенного ко мне конгрессмена ускорить мою натурализацию. Но зачем? У меня росла дочь-американка, я могла ждать, мне некуда было спешить.
Меня беспокоила лишь одна часть формальной процедуры: в присяге флагу США есть фраза — обещание «защищать Республику с оружием». Мы все повторили присягу в унисон, и я сделала то же самое. Однако я знала, что я не боец и что никогда не буду «держать оружие в руках» для любой цели. И все эти люди вокруг меня тоже не выглядели вооруженными бойцами. Вместо этого — подумала я — нам бы следовало всем дать присягу миру. С дочерью-американкой здесь и с детьми и внуками в СССР — о чем я могла еще думать, как не о Мире? Я думала о том, чтобы больше никогда не было войны и чтобы моя присяга флагу США стала бы мирной декларацией.
* * *Среди всех моих друзей в Штатах, подаривших мне тепло и верность на многие годы, была одна, чей образ для меня символичен: безусловно, мне она представлялась в роли Матери. И мне хочется, чтобы она осталась перед глазами читателя, когда книга будет прочитана, закрыта и отложена в сторону.
Она родилась девятым ребенком в семье англичанина, обосновавшегося на Среднем западе Америки, в Айове. Он начал там успешное дело. Жизнь в маленьком городке была во всех отношениях провинциальной. Семья не знала бедности, но все должны были много работать, чтобы держаться на этом среднем уровне. Она выросла в подчинении у строгой волевой матери и в соответствии с уставами пресвитерианской церкви.
В правилах этой семьи, среди всего прочего, было нанимать на работу молодых иммигрантов и обучать их настолько, чтобы впоследствии они смогли бы выйти в жизнь самостоятельно. Заботиться о других и помогать им во всем было важным принципом отношений в ее семье, и это соединялось с глубокой верой в Бога и с уважением к запросам других людей. Эту школу человеческой этики она прошла с детства, и с ее врожденным сочувствием к другим она, возможно, смогла бы стать впоследствии гуманистом большого масштаба — если бы она не отдавала все свое внимание семье и особенно детям. Она рано вышла замуж, имела шестерых детей, любила самое материнство и смотрела на него очень серьезно.
Но ее младшая любимица умерла от несчастного случая, другую дочь пришлось поместить на всю жизнь в лечебницу. А потом пришло и худшее.
Она очень любила своего мужа, молодого, вдохновенного священника, искавшего новых путей в пресвитерианской церкви и в отношении к человеку. Но ей, искренней и правдивой, невозможно было согласиться с ним во всем. В своем глубоком возвышении Природы, Жизни и всего натурального он вскоре пришел к увлечению модным тогда нудизмом. Не останавливаясь на полпути, он вскоре стал одним из лидеров этого движения, видя в нем духовные возможности и ценность отношения к человеку. Она много лет пыталась смириться с этим и приспособиться к его интересам, но внутренне понимала, что не сможет лгать. Ее муж проводил теперь большую часть времени в колонии нудистов, вдали от дома, и она в конце концов подала на развод в дни, когда разводы были все еще большой редкостью. Но она должна была жить в соответствии с своей собственной правдой — не его.