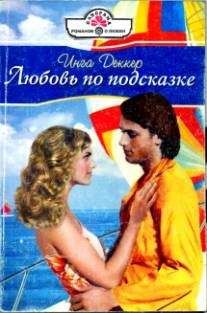Елена Кейс - «Ты должна это все забыть…»
А через несколько дней после концерта Андрей получил отказ. И казалось, что жизнь кончилась. Сама не знаю зачем, я пошла в ОВИР. Приняла меня заместитель начальника ОВИРа, на вид женщина совершенно обычная, но с колючим и холодным взглядом. Стоило ей только посмотреть на меня, как между нами сразу же возникла стена непонимания. А, собственно, разве могла я ожидать чего-то другого? Как принято, в кабинете она была не одна. В углу, в кресле, сидела мой районный инспектор Марина Владимировна — тощая, длинная, с копной волос на голове, странно не гармонирующих со всем ее обликом. Я прозвала ее «швабра», и между собой мы ее так всегда и называли.
Замначальника быстро взглянула на меня, и возникло ощущение физической боли, как будто меня полоснули бритвой. «Вы хотели знать причину отказа вашему сыну? Я уполномочена сообщить, что наша комиссия решила, что он еще слишком молод, чтобы принимать самостоятельные решения». Господи, нет предела их издевательствам. Люди, говорящие на разных языках, и то лучше понимают друг друга, чем я ее (или она меня?), а ведь вроде все слова, вылетающие из ее уст, вполне складно образуют законченные фразы.
«Послушайте, — чуть раздраженно ответила я, — если завтра мой сын изнасилует Марину Владимировну, — и я кивнула головой в сторону „швабры“, то суд накажет его по всей строгости закона, как абсолютно взрослого человека. Мне бы хотелось знать фамилии членов вашей комиссии, которые сумели признать моего сына в его восемнадцать лет недостаточно зрелым для совершения юридического действия, законного для лиц, достигших восемнадцатилетия».
Надо сказать, что я давно уже заметила, что именно требование «выдачи» определенных лиц, принимавших то или иное незаконное решение, почему-то всегда выводило из себя моего «официального» оппонента. Мне никогда не довелось услышать или узнать фамилии конкретных лиц, поставивших свою подпись при разборе моих заявлений или делавших заключение по вопросу моего выезда из страны. Думаю, такая же ситуация была и у остальных отказников. Нам всегда говорилось, что «решение принято коллегиально», или что «комиссия пришла к выводу», или, что совсем уж было абсурдно, что якобы существует некое «разъяснение к существующим законам», но оно (это разъяснение) рассылается только в определенные организации и является документом «для служебного пользования», то есть иначе говоря были секретными. Однако ни разу мне не удалось добиться, кто же именно рассылал эти документы или был членом комиссии. Ни разу за многие годы отказа. И однако вопрос этот неизменно выводил из себя моего собеседника, независимо от того, на каком уровне иерархической лестницы он стоял. Я часто задавала этот вопрос специально, чтобы изменить ровный, надменный и профессионально-равнодушный тон разговора.
Так случилось и на этот раз. Замначальника ОВИРа, на вид женщина уравновешенная и, как говорится, без особых примет, вдруг покраснела, стукнула кулаком по столу и прокричала мне в лицо: «Вы хотите обжаловать решение нашей комиссии? Жалуйтесь куда угодно. Вам это не поможет. Так же, как не помогло бы знание членов комиссии. И возраст вашего сына вам не поможет тоже. Запомните, запомните раз и навсегда — ваш сын никогда не получит разрешения один, даже в сорок лет. Он будет сидеть в отказе до тех пор, пока не будет принято положительное решение по вашему вопросу. А как вам известно, до 1992 года вы можете об этом забыть».
Она встала, показав мне, что разговор окончен. Как ни странно, но после ее тирады мне стало легче, как будто я поймала вора, когда он залезал ко мне в карман. Мы как бы поменялись ролями. В ней кипело раздражение, а я была абсолютно спокойна. «Спасибо за откровенность, — сказала я. Действительность — даже самая абсурдная — лучше подслащенной под законность лжи». И я вышла из кабинета.
Дома со мной началась истерика. Мне повезло, что Андрея не было дома и я смогла дать волю своим чувствам. Я рыдала в голос, открыто, как уже много лет не позволяла себе рыдать. Мне казалась, что вся моя жизнь прожита напрасно. Более того, у меня было чувство, что я, мать, встала на дороге своего сына и мешаю ему своим существованием. Гера пытался меня успокоить, но я видела, что и он подавлен и сломлен.
И вдруг совершенно неожиданно и против всякой логики он сказал: «Мы уедем с тобой отдыхать, на юг. Ты должна сменить обстановку». И я, рыдая, захлебываясь слезами, но хватаясь за эту идею, как за соломинку, заикаясь, поспешно ответила: «Да, уедем скорее. Я не могу видеть эту квартиру. Я ненавижу все вокруг. Я не хочу подходить к телефону. Я не хочу бороться. Я устала, мой милый. Увези меня отсюда».
Я не знаю, что подумал и почувствовал мой бедный сыночек, когда мы сообщили ему, что уезжаем отдыхать. Он только удивленно посмотрел на нас и ничего не сказал. Ничего. На душе у меня было муторно, как будто я совершаю предательство. «Куда вы поедете?» — спросил он. «Не знаю, — ответила я. Может быть, в Тбилиси, может, в Гагры или Сухуми». Мы действительно не решили, куда поедем. Я просто старалась убежать от себя, хотя прекрасно знала, что мне это не удастся.
Назавтра мы взяли билеты на самолет, благо время летних отпусков давно закончилось и билеты можно было купить без труда. Сначала мы полетели в Тбилиси к нашим хорошим знакомым. Прекрасный город, незнакомая речь, чудная погода — все, казалось, способствовало моему желанию убежать от привычной и ненавистной обстановки Ленинграда. Но выяснилось, что мне не стало легче. Я страдала бессоницей, и искусственно созданное спокойствие стало раздражать меня. Я думаю, что Гера чувствовал то же самое, потому что на четвертый день мы, проходя мимо вокзала, почти в один голос предложили друг другу покинуть Тбилиси. На следующий день мы были в Сухуми. За это время мы ни разу не звонили в Ленинград, как будто незнанием или, вернее, боязнью узнать, что там происходит, мы могли изменить объективную реальность происходящих там событий. «Не хочу ничего знать», — твердила я, как заведенная, когда мы проходили мимо почты. Собственно, разговаривала я сама с собой, так как Гера терпеливо молчал и не предлагал мне никуда звонить. Он честно выполнял условие — во время отдыха звонить в Ленинград не будем.
Через три дня, проведенных в Сухуми, я не выдержала. «Боже, — подумала я, — кого я хочу обмануть? Себя? А если с Андреем там что-нибудь произошло?» И, казалось бы совершенно невпопад, прерывая какой-то разговор за общим столом, я попросила разрешения у наших знакомых, в доме которых мы жили, позвонить в Ленинград. И услышала звенящий, кричащий, обиженный, но ликующий голос моего сына: «Мама! Ну что же вы не звоните?! Мне позвонили из ОВИРа и сказали, что с тебя снята секретность. Они просили тебя срочно к ним зайти!» Господи, Господи! Сколько раз за последние десять лет я рисовала в своем воображении этот миг! Остановись мгновение! Дай мне ощутить, впитать, раскусить тебя, насладиться тобой и опьянеть от тебя! «Мамочка, — прокричал Андрей. Ну, где ты? Почему ты молчишь?!» «Сынуля, — ответила я и почувствовала, что голос у меня сломался. — Спасибо, родной. Я все поняла. Но я не могу сейчас говорить».