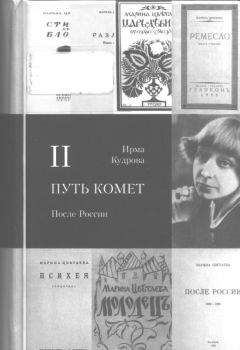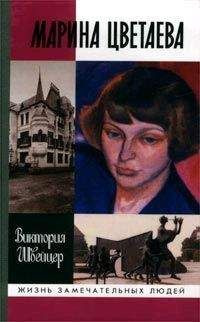Ирма Кудрова - Путь комет. Молодая Цветаева
— Но мне хочется писать свое! — протестует Марина. И рассказывает о своем увлечении записными книжками.
Но в глазах Иванова это хорошо только как материал к чему-то большему. Тогда пусть она пишет роман.
— У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны… Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам…
И снова Марина возражает: она еще слишком молода, ей надо откипеть…
— Я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне надо быть старше…
Вячеслав Иванов с женой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал— Ну пишите себя, свое, первый роман будет резко индивидуален, потом придет объективность. Можно автобиографию, но не как Ваша сестра, а как «Детство» и «Отрочество»… Вы христианка?
— Теперь, когда Бог обижен, я его люблю.
— Бог всегда обижен, мы должны помогать быть Богу.
«Эх, Вячеслав Иванович! — записывает Марина, комментируя их разговор о романе. — Вы немножко забыли, что я не только дочь профессора Цветаева, сильная к истории, филологии и труду (всё это есть), не только острый ум, не только дарование, которое надо осуществить в большом — наибольшем — но еще женщина, которой каждый встречный может выбить перо из рук, дух из ребер!» Разговор получился долгим, но по записи видно, что, преисполненный собой мэтр мало на что откликнулся из собственно цветаевских тем и проблем, ничего толком в ней не понял, ни о чем не догадался — кроме того, что она умна как бес. Встречи еще, видимо, были; в июне появилась дневниковая запись, зафиксировавшая лестные слова поэта: «С Вами не надо говорить, только изредка удостовериться: здесь ли Вы думаете — или уже дальше…»
Вячеслав Иванов Портрет Н. УльяноваГотовится к отъезду и Бальмонт с семьей — «последние настоящие друзья», как назовет их маленькая Аля в своем письме крестной в Крым. Бальмонт для Марины давно стал «братик». Испытания революционных московских лет, когда они виделись почти ежедневно и делились друг с другом последней щепоткой табака, последней картофелиной, последней щепкой, породнили их. Сама безбытная, Марина обожала в Бальмонте его полную внутреннюю свободу от быта. «…Земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит по первому низкому небу земли», — скажет она о своем друге почти двадцать лет спустя, на парижском вечере, призванном собрать средства в помощь больному поэту.
Верный своей природе, Бальмонт временами испытывает к Марине чувства более нежные, чем братские, и жалуется ей самой на ее холодность. Но он рыцарски принимает ее верность мужу и только просит: «Если ты когда-нибудь почувствуешь себя свободной…»
— Никогда! — успевает вставить Марина.
— Если ты когда-нибудь отчаешься, — продолжает Бальмонт, — в минуту нежной прихоти — подари мне себя! — И, после паузы: — Глупые женщины! Нужно не иметь никакого чутья к красоте, чтобы не понимать, как это было бы прекрасно: ребенок от Бальмонта и Марины Цветаевой!
Их сердечной дружбы это не разрушило.
И вот воспоминание самого Бальмонта о том времени из его книги «Где мой дом?», написанной всего через три года:
«Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах. <…>
В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился к ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний обед. <…> Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бегает, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.
— Сейчас, сейчас… — раздался звонкий голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:
— Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.
В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частию, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.
— Я не боюсь, — сказал я. И, взявшись за руки, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под грозно зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. <…>
Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: “Хотите?” При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготовлять то, что называется цигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: “Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат”. Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.
Марина добрая и безрассудная. Она не хочет оставаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть».
Несмотря на разницу лет, им всегда было легко друг с другом; «с ним у меня веселье и веселие, grande camaraderie,[9] с ним я, он со мной — мальчишка, — записывала Марина. — С ним бы мне хотелось прожить 93-й год в Париже, мы бы с ним восхитительно взошли на эшафот…»
Незадолго до отъезда из Москвы Бальмонт дарит Марине новых друзей — ими станут вдова недавно скончавшегося композитора Скрябина и друг композитора, пианист и актер Чабров, прославившийся исполнением роли Арлекина в спектакле Таирова «Покрывало Пьеретты»…
Юргис Балтрушайтис, с которым Бальмонт был давно дружен, стал к этому времени литовским посланником в Москве и помог поэту во всех предотъездных хлопотах. Он сумел достать заграничный паспорт и даже предоставил открытый грузовик своего посольства. И вот 12 июня Марина провожает своего друга в дальнюю дорогу из его дома в Николо-Песковском переулке.
Это уже вторые его проводы: первые были почти торжественны. Они проходили в доме Скрябиных, где сервировалось изысканное угощение: подавали картошку с перцем, а затем настоящий чай в безукоризненном фарфоре. Все говорили трогательные слова и целовались. Но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был отложен. Окончательные проводы происходили в квартире самих Бальмонтов — в невыразимом ералаше, табачном дыму, самоварном угаре и сутолоке.