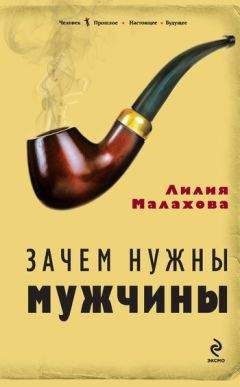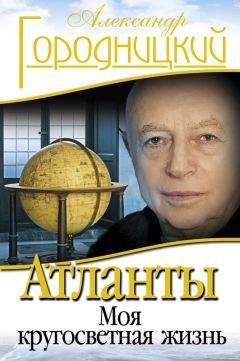Александр Городницкий - «Атланты держат небо...». Воспоминания старого островитянина
Я же, попав в Туруханский край, видел уже следы активной деятельности этого неутопленного вовремя вождя. Каждую весну, в половодье, мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали десятки человеческих черепов и костей из размытых весенним паводком безымянных захоронений выше по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек на месте бывших лагерей.
С желтого песчаного откоса,
Где прошла звериная тропа,
Половодье приносило кости,
Кисти рук, ключицы, черепа.
На свободу их из заключенья
Выносила мутная вода.
Мы стояли ниже по теченью
На реке Сухарихе тогда.
Запах тленья, приторный и сладкий,
Вниз распространялся по реке.
Поутру проснешься – у палатки
Скалит череп зубы на песке.
В лагерях на быстрых этих реках,
Где срока не меньше десяти,
По весне расстреливали зэков,
Чтобы летом новых завезти.
Мы со спиртом поднимали кружки,
Поминая этих доходяг.
С той поры мне объяснять не нужно,
Что такое сталинский ГУЛАГ.
А неподалеку от Курейки, на том же левом берегу Енисея, ниже по течению, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить по замыслу «величайшего гения всех времен и народов» знаменитая «мертвая» железная дорога Салехард – Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов «ИС» («Иосиф Сталин»), завезенных сюда когда-то баржами из Красноярска. Дорогу эту строили на вечной мерзлоте, заранее зная, что держаться она на ней не сможет. Но обреченное это строительство затеяно было не для того, чтобы поезда ходили, а для того, чтобы умертвить сотни тысяч людей, и эта цель была успешно достигнута.
В 1995 году в Норильске нам с Юлием Кимом показывали только что открытый музей истории Норильска, ставший, по существу, одним из первых музеев ГУЛАГа. В середине музея стоит огромный чугунный крест, который, если смотреть сбоку, имеет форму вопросительного знака. Мэр города объяснил нам, что это – проект памятника безвинно погибшим, который должны были бы поставить на центральной площади, да так и не решились. Людей сюда завозили летом, в навигацию, на пароходах. До следующего лета они должны были умереть от непосильной работы на лесоповале или в рудниках, от цинги и холода. Тех, кто не умирал сам, расстреливали по весне и завозили новых. Самым страшным временем поэтому в норильских и других северных лагерях была весна. Так в Туруханском крае и под Игаркой стала открываться для меня страшная изнанка сталинской империи.
Что же до истоков авторской песни, то именно в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие, по большей части из бывших зэков. Некоторые из них я слышал позднее в доме Серманов, отсидевших на Колыме. Так я услышал впервые великие песни, созданные безымянными авторами в беспросветных потемках лагерей гулаговской империи: «Ванинский порт», «Голубые снега», «Черные сухари» («А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц голубой. А мне сидеть еще четыре года. Душа болит – так хочется домой»), «Бежит речка да по песочку, бережок моет», «Идут на север срока огромные, кого ни спросишь – у всех указ», и многие другие. Я не любил и до сих пор не люблю блатные песни, которыми иногда щеголяли мои приятели. Помню, как в 1965 году мы спорили об этом с Володей Высоцким в доме Евгения Клячкина в Питере. Я полностью согласен с Варламом Шаламовым в его оценке блатарей и не вижу никакой романтики в воровстве и бандитизме. Но песни зэков – это уже совсем другое.
Когда я вначале по наивности и неопытности интересовался, кто автор, мне с угрюмой усмешкой отвечали одно и то же: «Слова народные, автора скоро выпустят». И я перестал спрашивать. Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так, что называется, а капелла, – вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел не для других, а как бы только для себя, неспешно вдумываясь в поющиеся слова. Незримая общность того, о чем говорилось в песне, объединяла поющих, и возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти. От того, что и жили вместе, и страдали.
Стихи здесь не котировались – они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня – совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике песни пели все: рабочие после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в жару, летчики после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, геологи после изнурительного маршрута, пели все, глядя, не мигая, в желтое пламя вечернего костра. Песни были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов были неизменны.
Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал уже всерьез придумывать какие-то нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так были написаны «Снег», «Деревянные города», «Перекаты» и некоторые другие песни, также ставшие со временем безымянными. Песня «Снег» была написана после первого полевого сезона в Арктике в феврале 1958 года в Ленинграде. Посвящена она сестре Нины Королевой Лене Ошкадаровой, за которой я тогда вполне платонически ухаживал. Отсюда и «Петроградская сторона» и «Кос твоих светлая прядь».
Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все еще спят,
Что вспоминается мне?
Неба далекого просинь,
Давние письма домой…
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.
Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.
Над Петроградской твоей стороной
Вьется веселый снежок,
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами Линий
По-ленинградскому синий
Вечер спустился опять.
Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег…
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.
Долго ли сердце твое сберегу? —
Ветер поет на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнется,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком – как придется —
Песня к тебе доберется
Даже в нелетные дни.
Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгою кружится.
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег…
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.
Помню, через пару дней после того, как она была написана, мы вместе с Леной Кумпан и Олегом Тарутиным ездили в Комарово кататься на лыжах. Я показал им эту песню, и она им понравилась. Через каждые полчаса мы сходили с лыжни и, встав в кружок, снова пели «Снег», пока они не выучили песню наизусть. Эта песня стала очень быстро распространяться. Позднее ее включил в свой репертуар Иосиф Кобзон и даже спел в новогоднем «Голубом огоньке» 1966 года. Где-то году в 60-м ее опубликовала на своих страницах «Комсомольская правда», и я почти сразу же получил письмо из города Иваново от какой-то девушки, которая представилась как комсорг цеха и передовик производства и предложила завязать переписку. «Так приятно иметь талантливых друзей, – писала она, – и, может быть, со временем эта дружба перейдет в лю…» К письму была приложена ее маленькая паспортная фотография. «У меня нет под рукой другой, – извинялась девица, – но в следующий раз я обязательно пришлю свой снимок в купальнике». Больше всего мне запомнился конец письма: «Извини, дорогой Саша, что, еще не будучи с тобой знакома, я сразу обращаюсь к тебе на „ты“, но я считаю, что комсомольцы должны обо всем говорить друг другу прямо».