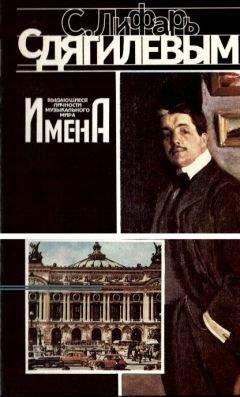Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
«„Священная весна“ имела вчера настоящий триумф. Это дурачье дошло до ее понимания. „Times“ говорит, что „Sacre“ для XX века то же самое, что Девятая симфония Бетховена была для XIX! Наконец-то! Нужно иметь терпение и быть немного философом в жизни, чтобы сверху смотреть на препятствия, которые маленькие и ограниченные люди воздвигают против всякого усилия выйти из посредственности. Боже мой, это пошло как хорошая погода, но что же делать: нельзя жить без надежды увидеть снова на рассвете луч завтрашнего солнца».
За игрой лица Сергея Павловича на этом спектакле 22 июля 1929 года наблюдал Ж. Орик, который писал в «Gringoire»:
«Его лицо, немного полное, имело теперь выражение невероятной, почти детской мягкости… Он вдруг нагибался, приближал к своим глазам бинокль, подмечал ошибку, наблюдал публику… Но как только картина кончалась, он выпрямлялся, ни минуты не думая о сопротивлении. Какие аплодисменты, когда г-жа Соколова возвращалась раз, два раза, три раза, бесконечное число раз, чтобы раскланиваться перед зрителями, преображенными „Sacre“!.. Я не решался более говорить ни одного слова Дягилеву, блаженная улыбка которого трогала меня до неописуемой степени. Когда я думаю об его смерти через несколько недель, обо всем, что она уничтожила вокруг себя, – это лицо снова появляется в моем воспоминании».
Триумфу «Весны священной» радовался ее главный творец.
В создании «Игр» Дягилев принимал гораздо меньшее участие и никогда не возобновлял этого неудавшегося балета…
Кроме трех балетных новинок, Дягилев привез в Париж из Монте-Карло три оперы: «Бориса Годунова», «Хованщину» Мусоргского и «Майскую ночь» Римского-Корсакова (последние две оперы с декорациями Федоровского). До сих пор Дягилев давал свои спектакли в «Châtelet» и в «Орérа», на этот раз Г. Астрюк предложил ему «Театр des Champs Elysées». Об этом своем предложении, послужившем одной из главных причин его разорения, Астрюк запомнил на всю жизнь и красочно рассказывает в своем «Pavilion des fantômes» [167]:
«Наконец появились русские, опера и балет. Я сказал Сергею Павловичу: „В этом году не будет больше ни „Châtelet“ ни „Орérа“. Вы будете у меня!“
– Но, дорогой друг, как раз директора „Орérа“ меня требуют.
– Вот как! И сколько же они вам предлагают? Конечно, двенадцать тысяч франков, вашу обычную цену?
– Да, но вы понимаете, что вот уже шесть лет, как все говорят, что русский балет изобрел Астрюк! А за это, дорогой друг, надо платить!
– Сколько?
– По меньшей мере двадцать пять тысяч франков за вечер.
– Даже при двадцати спектаклях?
– Даже при двадцати спектаклях.
Это составляло полмиллиона! Но честь была замешана, самолюбие тоже. Я подписал. Я подписал свой приговор к смерти, ибо к этим двадцати пяти тысячам франков прибавлялись двадцать тысяч франков других расходов: оркестр, потревоженный утром, днем и вечером, машинисты, электротехники, парикмахеры, костюмеры, да и мало кто еще!.. Я уже не считаю указов Стравинского, требовавшего своим томным голосом и со своим славянским шармом двадцати дополнительных музыкантов и готового уничтожить первый ряд кресел, целиком проданный: „Вы знаете, дорогой друг, это теперь очень просто делается с могучим буравчиком, который режет сталь и железобетон. А мебельные обойщики очень скоро устроят все остальное!“
О, Стравинский, балованный ребенок! Дорогой гениальный Игорь, который хотел разрушить стены моего здания, я не жалею о моем безумии…»
Премьера «Весны священной» прошла с громадным скандалом, с таким скандалом, который напоминал времена «Hernani» [168]. Об этом первом представлении сохранилось множество воспоминаний, из которых я приведу только рассказ Ромолы Нижинской, так как она присутствовала и в зрительном зале, и за кулисами. Свой рассказ она начинает цитатой из воспоминаний другого очевидца скандала – Carl van Vechten’a [Карла ван Вехтена]:
«Часть зрительного зала была потрясена тем, что она считала кощунственным покушением, предназначенным уничтожить искусство в музыке; охваченная яростью, она начала, с самого поднятия занавеса, свистеть и делать громко замечания о том, как будет продолжаться. Оркестр играл, но его нельзя было слышать, за исключением временных перерывов, когда происходило легкое успокоение. Молодой человек, сидевший сзади меня в ложе, поднялся во время балета, чтобы яснее его видеть. Возбуждение, которое было в нем, скоро стало выражаться ритмическими отстукиваниями кулаком по моей голове. Мое волнение было таким сильным, что я некоторое время не замечал ударов».
«Да, действительно, – продолжает Ромола Нижинская, – волнение и крики доходили до пароксизма. Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись. Монтё бросал отчаянные взгляды в сторону Дягилева, который, сидя в ложе Астрюка, делал ему знаки продолжать играть. Астрюк, в этом неописуемом кавардаке, велел осветить залу. Одна великолепно одетая дама поднялась в своей ложе внизу и дала пощечину молодому человеку, свистевшему в соседней ложе. Сопровождающие ее встали, и мужчины обменялись карточками. На следующий день между ними произошла дуэль. Другая дама общества плюнула в лицо одному из манифестантов. Княгиня П. покинула свою ложу со словами:
– Мне шестьдесят лет, и в первый раз надо мной посмели смеяться.
В это время Дягилев, который сидел позеленевший в своей ложе, крикнул:
– Прошу вас, дайте окончить спектакль.
Временно наступило умиротворение, но только временно. С конца первой картины битва возобновилась. Я была оглушена этим адским шумом и как только могла скоро бросилась за кулисы. Там все шло так же плохо, как в зале. Танцовщики дрожали, удерживали слезы; они даже не ушли в свои уборные.
Началась вторая картина, но слышать музыку было невозможно. Я не могла пробраться до моего кресла, а так как артисты, смотревшие за кулисами, были не менее того взволнованы, то я не могла дойти и до артистического входа. Меня все больше отталкивали к левому крылу. Григорьев и Кремнев были бессильны освободить эту часть сцены. Против меня, сзади декораций, происходил такой же кавардак. Василий боролся, чтобы очистить проход Нижинскому. Вацлав был в своем рабочем костюме. Его лицо было так же бело, как и его крепдешиновая блуза… К концу представления все были истощены. Долгая месячная работа сочинения, бесконечные репетиции и наконец этот кавардак.
Снова охрана Василия была разбита, и уборная Нижинского была занята Дягилевым, окруженным своими друзьями и балетоманами, разговаривавшими и спорившими… Стравинский бредил. Но все были единодушны в уверенности в том, что их создание было прекрасным и что когда-нибудь оно будет принято. Они были все так взволнованы, что не могли идти ужинать, и кто-то предложил прогулку вокруг озера. И Дягилев с Нижинским, Стравинским и Кокто отправились в Булонский лес и вернулись домой только к утру».
«Весна священная» не была оценена ни зрителями, ни прессой. Впрочем, возмущение и публики и прессы больше относилось к музыке Игоря Стравинского, чем к новой и дерзновенной «хореографии» Дягилева и Нижинского – последнюю просто игнорировали, как, впрочем, и предшествовавшую ей постановку «Jeux». Более других разобрался в новых балетах А. Левинсон, в своей критике дошедший почти до понимания двойственности хореографии – в замысле и в его осуществлении (Левинсон, конечно, не мог знать, что такая двойственность была и в самом создании балета, что замысел, творческая идея новой хореографии принадлежала Дягилеву, а ее осуществление Нижинскому вместе с Рамбер). А. Левинсон увидел «роковую ложь» в том, как воспринял балетмейстер «изысканнейшую готтентотскую» музыку Стравинского, «пронизывающую слух нестерпимыми неблагозвучиями, тяжкими и повелительными ритмами»: «Единственная рациональная цель придуманных им движений – осуществление ритма. Ритм – такова в его замысле единственная, чудовищная сила, обуздавшая первобытную душу.