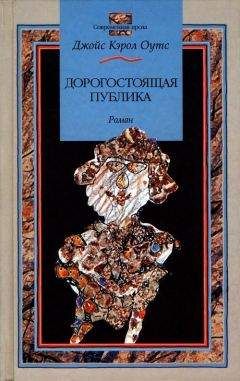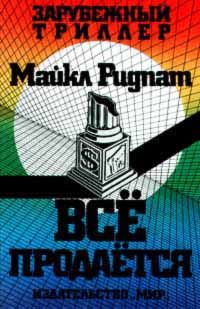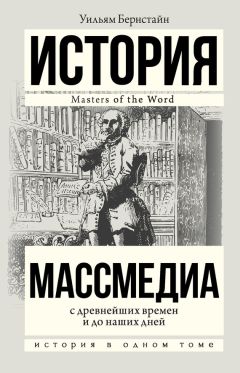Герман Юрьевич - Хогарт
А вслед за тем Хогарт столкнулся уже не с «конессёрами» и завистниками вроде Сэндби, а с достойным врагом. То был Джошуа Рейнольдс, о котором Хогарт еще почти ничего не знал, но о котором ему предстояло узнать, увы, слишком многое.
Хогарт, надо заметить, обладал странным, труднообъяснимым свойством; он был знаком и даже близок с многими знаменитыми людьми своего времени, мало было сколько-нибудь выдающихся литераторов, художников или журналистов, о которых он не знал; но о нем самом современники вспоминают мало. Факт этот всегда несколько озадачивал биографов, да и в самом деле нелегко найти ему удобопонятное объяснение. Все его знали — ну кто не знал мистера Хогарта, маленького и плотного, веселого, но въедливого собеседника, часто устраивавшего неожиданные, а иногда и с привкусом скандала истории. Но никому не приходило в голову воспринимать его совсем всерьез: масштаб его таланта мало кому был хотя бы в какой-то степени понятен. Он слишком часто удивлял людей, его уже не старались понимать во всем, его суждения были такими крайними, порой казались вздором, порой чересчур мудреными.
Другое дело мистер Рейнольдс.
То был человек светский; он умел говорить, и даже самые банальные мысли звучали в его речи остро и занимательно. Портреты писал он с завидной легкостью, заказ выполнял за несколько дней, и портреты неизменно нравились заказчикам. Он был истинно светским живописцем, этаким Ван-Дейком XVIII века, обворожительным гостем, любезным хозяином.
В несколько лет он стал самым модным лондонским портретистом.
Он был, пожалуй, в такой же моде, как некогда Уильям Кент.
Но в отличие от Кента он был художник блистательный. Кисть его не знала вульгарности, в каждом мазке, даже самом торопливом, светился талант.
Портреты «светских львов», которые Хогарт писал то с внезапным увлечением, тц с усталым равнодушием, портреты «хай-лайфа», рожденные в хогартовской мастерской, Рейнольдс довел до степени совершенства. Там, где Хогарт мучился и размышлял, Рейнольдс спокойно создавал шедевры. Он не обгонял свое время, не заглядывал в будущий век — он делал то, чего ждал век нынешний.
И потому он не мог принять беспокойных, противоречивых и путаных хогартовских размышлений. Потому его раздражала напряженная, иногда грубоватая, трудная живопись Хогарта. Рейнольдс видел в нем не просто знаменитого старика, но и художника, пытавшегося угадать будущее; и сразу понял, что с Хогартом ему не по пути.
В тридцать пять лет он не только был знаменит, но близко сошелся и с Гарриком, и с Джонсоном (с которым Хогарт был едва знаком), и со многими другими знаменитостями. И Хогарт иногда начинал чувствовать вокруг себя холодную, пугающую пустоту.
Рейнольдс тоже стал излагать в печати свои взгляды на искусство, и начал с нападок на Хогарта. Он знал, кто больше всех противится созданию Академия, о которой он, Рейнольдс, мечтал уже давно.
Он не старался «поставить Колумбово яйцо». Он просто писал изящным слогом статьи, где то откровенно, то намеками чернил «Анализ красоты». Хогарт был достаточно умен, чтобы понять: новый противник не чета его прежним соперникам, сводящим старые счеты. Пришло новое поколение. Это было горько, спорить с Рейнольдсом не хотелось. У него едва хватало сил отвечать на нападки Сэндби и его приятелей.
Но самое поразительное, что он продолжал работать с неостывающим жаром, будто предчувствуя, что судьба оставила ему совсем немного дней.
Еще в 1756 году он написал огромную алтарную картину для бристольской церкви святой Марии, даже не картину, а целый триптих — «Положение во гроб», «Вознесение» и «Три Марии», — последняя попытка создать нечто великое и сравняться со старыми мастерами, трогательная смесь подлинного таланта и наивных заимствований у Рафаэля, Риччи и Маньяско. Страшно представить себе, что старый, усталый художник — ему шел уже шестидесятый год — с мучительной надеждой тратил недели и месяцы, создавая картины, которые историки упоминают сейчас почти с чувством неловкости. А ведь были и бессонные ночи, и радость от удачно написанных кусков, и минуты внутреннего торжества!
Но этого мало. Он пишет светские занимательные картинки, пишет мрачную сатиру «Суд» — жуткий и постыдный образ британской юстиции, пишет портреты и делает, наконец, патриотические карикатуры — свидетельство последней вспышки хронической галлофобии. Это две гравюры «Нашествие», сделанные с энтузиазмом, достойным собравшегося в поход Джона Буля: французы на них отвратительны, а англичане веселы, добродушны и заведомо непобедимы. Ну что ж, в конце концов его можно было попять: шла война, он был патриотом, и с французами у него были давние и неприятные счеты. Тут уж им владели чувства, не знакомые новому поколению, он был преисполнен любви к «доброй старой Англии», хотя нынешняя Англия раздражала его безмерно.
А возможно, он просто начинал стареть.
МИСТЕР ХОГАРТ СТАРЕЕТ
Стариком в полной мере он стать не успел. Старость давала о себе знать изредка и коварно. Иногда он просто плохо себя чувствовал. А иногда совершал вздорные, смешные поступки.
Так, еще в 1757 году он глупо поссорился с Гарриком. Именно он, Гаррик, с ним просто поспорил, ему показалось, что на новом, писанном Хогартом портрете, он мало похож.
И Хогарт не нашел ничего лучшего, как замазать лицо грязной кистью, чем, естественно, привел портрет в совершенно негодное состояние.
А портрет был отменный, живой и изящный, как сам Гаррик, хотя, может быть, и чересчур изящный: актер в синем кафтане, с розой на груди за работой над прологом к комедии Фута «Вкус», и рядом с ним в нежно-желтом платье его прелестная юная жена Ева-Мария, шаловливо отнимающая у него перо. Один из лучших его портретов!
И хотя говорят, что Хогарт откровенно подражал одному из портретов Ван-Лoo, но это, право же, пустяки! Портрет Ван-Лoo был посредственный, а Хогарт написал зрелый, мудрый и веселый портрет. Шекспир, как известно, тоже пользовался чужими сюжетами!
Несмотря на некоторые огорчительные возрастные причуды, он сохранял присущую ему тонкость мышления. Достаточно сказать, что он читал, и читал с удовольствием «Тристрама Шенди», что, как известно, требует изощренной восприимчивости и способности непредвзято судить о новой, необычной литературной манере.
Доказательством тому отличный рисунок для фронтисписа первого выпуска «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена», сделанный по собственной просьбе Стерна, большого почитателя нашего художника. Стерн сам недурно рисовал, хорошо чувствовал искусство и просто мечтал, чтобы Хогарт сделал рисунок к «Тристраму». Хогарт сделал именно то, о чем просил через своего приятеля Стерн, — нарисовал капрала Трима, читающего проповедь. Конечно, это не самая суть книги, но так нарисовать ее персонажей мог только художник, оценивший стилистику Стерна, ритм его прозы, горьковатую печаль веселых суждений. А ведь этот писатель читался трудно.