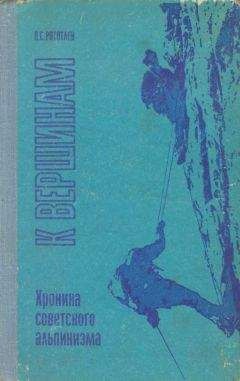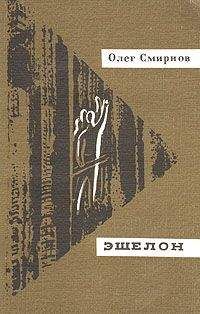Олег Смирнов - Эшелон (Дилогия - 1)
- Люблю молоденьких, - сказала Варя.
С улицы вбежал мальчуган, Варя сказала:
- Легок на помине. Вот он, наследничек.
Это было и так ясно: облеплен веснушками, большеротый, зеленоглазый, как и мать. Мальчик оглядел Глушкова с ног до головы, протянул крепкую прохладную ладошку.
- Коля.
- Петр, - сказал Глушков.
- Значит, дядя Петя, - уточнил мальчик и ушел.
- Ну, вот что, дядя Петя, - сказала Варя, - ты мне нравишься. Будем встречаться. Договорились?
Петр не ответил, потому что в дверях показался старшина Вознюк - шинель затянута, сапоги надраены, полный порядочек.
Отчеканил:
- Шагом марш, Глушков!
Петр сказал Варе: "До свиданья", она сказала: "До скорого свидания" - и проводила его до порога.
На улице они с Вознюком обходили лужи, грязь подсохла, уже пылило, старшина посматривал на свои тускнеющие сапоги и был неразговорчив, строг и неприступен. Но перед воротами проходной обернулся и промолвил:
- Учти - Варвара бой-баба. Мне-то безразлично, не ты, так кто другой, порожней она не будет. А? Но ты учти...
Громоподобное, взрывное "а?" ответа не потребовало, и Глушков промолчал.
Он был достаточно робок, чтоб посметь прийти в увольнение на квартиру старшины Вознюка. Но Варя сама пришла к проходной, вызвала его и пригласила к себе на очередное воскресенье. Так он и стал бывать на Гродненской, дом восемь. Варя угощала его пирожками, вареньем, картавой скороговоркой, трелями кенаря и "Синим платочком" в собственном исполнении.
Иногда они ходили в кино, в клуб или в лес по ягоды. Там, в лесу, однажды Варя легла на свежую травку, осипшим, изменившимся голосом позвала Глушкова и, когда он приблизился, дернула за руку, уронила на себя, обдавая нестерпимым жаром. Он сперва не разобрал, обиделся, она сказала: "Дурачок" - и снова дернула за руку. Потом она перебирала его отросшие жесткие волосы и говорила, что теперь он не мальчик, а мужчина, и Петр думал: "Я слыхал это, слыхал, только не от нее и по иному поводу..." Он и гордился тем, что сейчас случилось, и жалел о чемто, и хотел чего-то другого и не с Варей. Но с ним была она, Варя, - для него она могла быть и Варварой Артемьевной, - и он опять припал к сухощавому, гибкому и жадному телу.
После этой лесной прогулки он зачастил на Гродненскую, восемь, и уже вел себя уверенней: козырял старшине, с его половиной ручкался и проходил в Барину комнатенку. Варя выпроваживала сына на двор, закрывала дверь на крючок и, с неистовой торопливостью сорвав с себя одежду, опрокидывалась на скрипучий, расхлябанный диванчик.
Все это было как в угаре, и перед всем этим отступали и порой забывались и тяготы службы, и послеармейские перспективы, и даже то, что мама не приедет к нему в отпуск: легкие больны, местком выделил путевку в Теберду, на будущее лето откладывается поездка к ее дорогому мальчику Петеньке, мама так и написала - мальчик Петенька. А он, собственно, перестал быть мальчиком. Он мужчина. И мальчики ему говорят: "Дядя Петя".
Вот так-то.
Старшина сверхсрочной службы Вознюк Евдоким Артемьевич, имеющий в личном деле сорок пять благодарностей и ни одного выговора, сказал Глушкову:
- Варька к тебе присосалась, стал быть, устраиваешь... Да и вообще ты человечек ничего... А? Однако скажу откровенно: вояки стоящего из тебя не выйдет. Потому - злости в тебе нету...
- Да ладно вам, Евдоким Артемьевич, - ответил Петр и махнул рукой.
Он мог позволить себе эту вольность: некоторым образом породнились со всемогущим ротным старшиной. Вот так-то. И подумал: "Во мне нет злости? Есть, наверное. Дремлет. Стоит лишь разбудить ее". И еще подумал некстати: "Боялся лихих девиц на клязьминской даче, а Вареньки нисколько не боюсь, хотя она тоже, видать, из лихих..."
И сорок первый год был зеленым, симпатичным и домашним - по тем же причинам.
У Глушкова была увольнительная на сутки, и он ночевал у Вари. Колю положили спать в горнице, им никто не мешал. Они уснули перед рассветом, истомленные. Глушков пробудился оттого, что кусали блохи, в зрачки бил солнечный луч и дребезжало-позванивало оконное стекло - вдали глухо погромыхивал гром.
В Лиде вёдро, по откуда-то, наверное, идет гроза. Блохи же в Лиде звери, нигде больше пет подобных и в подобном количестве.
Он высвободил из-под Вари свою затекшую руку, повернулся на спину, почесался - звери, звери, всего искусали. Варя свернулась комочком, простыня над ее грудью колыхалась, в подглазьях синели круги, у рта залегли мелкие морщины, в рассыпанных по подушке волосах белели сединки. Если приглядеться. А если не приглядываться, то все волосы каштановые. Лучше не приглядываться. И к ней, и к тому, что завязалось и никак не развяжется между ними, - угарное, не совсем чистое и начинающее тяготить.
Его, но не Вареньку. Варенька, Варя, Варвара Артемьевна...
Она почмокала во сне, простонала протяжно и гортанно, как это она умеет. Во дворе прокукарекал петух, залаяла собака, заплакала девочка. Продолжало погромыхивать - при солнце. За дверью раздались легкие шаги, в нее толкнулись, и она отворилась.
И Глушков сперва спохватился - не закрыли на крючок? - а после уже услышал слова вбежавшего в комнату Коли:
- Война! Что вы тут спите? Война! Дядя Евдоким сказал!
Так и запечатлелось: радостно-возбужденный мальчишка, конопатый, большеротый, с вихром на макушке, мальчишка, который возвестил о войне.
В том первом бою они дрались, как умели. Старшина Вознюк был наповал убит осколком, сержант Глушков уцелел. После боя его рвало желто-зеленой слизью, и он отрывочно вспоминал о городе Лиде, старшине Вознюке и его сестре Варе, чтобы потом почти не вспоминать их. Гораздо чаще он припоминал о том, как считал своп армейские годы вычеркнутыми из жпзпи, по вся его жизнь была только армейская.
А мама в Ростове не уцелела. Как ему написали. Лидию Васильевну, бывшую у подпольщиков связной, схватили гестаповцы.
Немолодая и нездоровая. Связная. Расстреляна во дворе гестапо.
"Вы можете гордиться своей матерью..." Он никогда ею не гордился, это она гордилась им. Прости, мама.
17
За Волгой эшелон пошел ходче. Проехали Данилов и от Буя повернули на Киров, строго на восток. Ярославские, костромские и вятские края разворачивались неоглядными лесами, заливными пастбищами, болотами. Деревеньки серели и в лесах, и среди болот, небольшие, с осевшими, под дранкой и соломой избами. Радовало, что они целые, не тронутые войной, и печалило, что они дряхлые и убогие. Народец худосочный, белесый, в лаптях. Мужиков почти не видать, разве что какой старик на завалинке, или инвалид - безрукий, безногий на костылях, наш брат, побывал в мясорубке, или кто с палочкой, прихрамывает - опять же наш брат, из вояк, долечивает рапы. Зато ребятни много - сопливые, голопузые, с отбеленными головенками. Вот кому заживется - ребятне, когда кончатся все войны, будь они прокляты. Ребятне повезет: война не будет нависать над их жизнью, как грозовая туча, висящая сейчас над горизонтом.