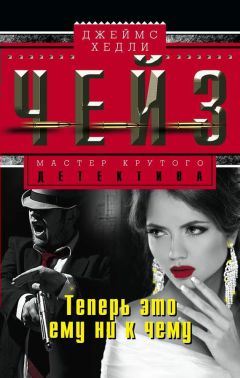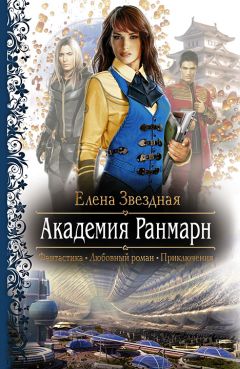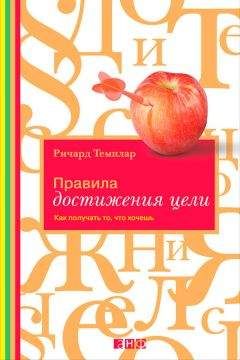Борис Кремнев - Шуберт
Начальный запев торжествен и суров. Он напоминает погребальное шествие, медленное и сосредоточенное в своей всеобъемлющей скорби. Мелодия «Смерти и девушки» мужественна и немногословна, как немногословно и мужественно горе, сковавшее людей. Эта оцепенелая скованность изумительно выражена в мелодическом и ритмическом рисунке песни. Она напоминает средневековый хорал, величественный, простой и строгий.
А следом за песней идут вариации. Их много, и все они, основываясь на едином фундаменте заданной темы, воздвигают новое здание удивительной красоты и совершенства. Горе и скорбь как бы предстают в разных, непохожих ракурсах и поворотах. Это различные оттенки одного и того же чувства, измеренного на всю его глубину и выраженного во всю его силу.
Холодному, сурово-неподвижному образу смерти противостоит мятущийся, бурно-взволнованный образ девушки, борющейся за жизнь.
Но смерть, как она ни могуча, не может умертвить народ, Он, пусть унижаемый и изничтожаемый, пусть попираемый и угнетаемый, все же необорим. Ибо он бессмертен, как бессмертна жизнь на земле. И рано или поздно он восторжествует. Как в конечном счете торжествует жизнь над мертвечиной.
Торжеству жизни посвящены две последние части квартета, драматичные, волевые, жизнеутверждающие. Недаром они пронизаны интонациями и ритмами народной песни и танца.
Любопытный эпизод, связанный с историей создания этого бессмертного квартета, рассказал Франц Лахнер, молодой композитор из Баварии, прибывший в Вену искать свое счастье и крепко сдружившийся с Шубертом.
«Однажды Лахнер зашел к своему другу. Шуберту не работалось в тот день, и он обрадовался приходу приятеля.
– Заходи, заходи, выпьем чашку кофе, – проговорил он, подошел к грубо сколоченному шкафу, достал из него старую кофейную мельницу, «свое сокровище», как он ее называл, отмерил зерна, снял очки и принялся молоть кофе.
– Вот оно! Вот оно! – вдруг вскричал он. – Ах ты, старая перечница!..
И он отшвырнул мельницу в угол комнаты, да так, что кофейные зерна рассыпались во все стороны.
– Что случилось, Францль? – спросил Лахнер.
– Это не мельница, а сущее чудо. Мелодии и темы так и выпархивают из нее. Сами собой. Ты только послушай – это вот «ра-ра-ра». Оно же создает чудесное настроение, будоражит фантазию!
– Выходит, музыку сочиняет кофейная мельница, а не голова! – рассмеялся Лахнер.
– Совершенно верно, Францль, – серьезно ответил Шуберт. – Другой раз голова целыми днями ищет какой-нибудь мотив, а мельница находит его в одну секунду. Ты только послушай…
Это была тема грандиозного ре-минорного квартета, вторую часть которого составляют вариации на тему песни «Девушка и смерть».
Чем больше густела тьма, тем настойчивее Шуберт искал просветы. Он не тщился найти их в жизни, а потому создавал их в искусстве. В искусстве видел он спасение от ослепления тьмой. В нем, и только в нем.
И еще наивно полагал, что благотворные преобразования могут прийти сверху. «Эту сволочь, – пишет он Шпауну, – легко можно было бы разогнать на все четыре стороны, если бы только сверху было чтонибудь предпринято». Впрочем, жизнь безжалостно разрушала наивные иллюзии, разбивала в щепы прекраснодушные мечты о том, что рабство – в данном случае духовное – в конце концов падет по манию царя.
Следовательно, оставалось искусство, единственное, чем он обладал. Правда, он с горечью сознавал, что зажженные им огни видны лишь немногим. Он предназначал их народу, а светили они лишь небольшой горстке друзей и почитателей. Это удручало, но не останавливало его. Ибо свет, однажды засвеченный, будет светить и впредь. Не современникам, так потомкам. И звать их к жизни лучшей, чем та, что выпала на долю его печального поколения.
Поэтому почти одновременно с произведениями горькими, трагичными он создает произведения светлые, оптимистичные, овеянные высокой героикой.
В том же году, что ре-минорный квартет, написано си-бемоль-мажорное трио. Оно сверкает красками, полно бодрости, мощи, горячей веры в будущее.
Первая же фраза трио напоминает призывную фанфару. Свободно и горделиво взлетая вверх, она сразу же настраивает на героический лад. Этот настрой отличает все произведение. Он господствует и в победно-маршевом движении главной темы, и в светлой лирике второй части, и в жизнерадостном финале.
Теперь в Вене были все старые друзья. Они вновь собрались вместе, чтобы больше не разлучаться. Шпаун перебрался в столицу и прочно обосновался в ней. Купельвизер возвратился из странствий по Италии. Шобер, как говорится, «вернулся на круги свои». Возвращение отнюдь не было триумфальным.
Бреславльская сцена не нашла в нем второго Кина или Коклена. Он не заставил тамошних поклонников Мельпомены рыдать или надрывать животы от хохота. Ни трагик, ни комик из него не получился. Видимо, рассуждать об искусстве куда легче, чем творить его.
Шобер как-то разом полинял. С него спал апломб. Он присмирел и притих. Правда, ненадолго. Освоившись и отойдя, он опять принялся за старое: безапелляционно судил обо всем и вся, покровительственно похваливал, – сплеча разносил, жуировал, танцевал, декламировал. Но все это было уже не то, что прежде. Все это было возвратом вспять. Возвращаться же нельзя. Ни к чему. Даже к самому лучшему.
Шобер перестал быть пророком среди шубертианцев. Его жалели, над ним подсмеивались. Даже Шуберт и тот мягко подтрунивал над ним. Маска неудачника, которую надел на себя Шобер, не принесла ему добра. Да и не могла принести. Неудачников не любят. Они вызывают либо жалость, либо насмешки. И то и другое неприятно и унизительно.
Странно, что Шобер, умный и проницательный, не понимал ложности своего поведения и положения. Он, как прежде, претендовал быть душою общества, без конца устраивал шубертиады у себя на дому, тащил друзей в трактиры и кафе. Последнему препятствовало лишь одно обстоятельство – безденежье: Шобер плотно сидел на мели. Сомнительные спекуляции венгерским вином, в которые он вдруг ударился, возомнив себя недюжинным коммерсантом, еще больше разорили его.
Впрочем, безденежье не смущало Шобера. Пить и гулять на чужой счет было ему куда привычнее, чем на свой.
Шубертиады внешне проходили так же, как прежде. Фогль по-прежнему много пел. Шуберт аккомпанировал и тут же, за роялем, сочинял танцы. Друзья веселились, танцевали, выпивали на «ты», или, как они говорили, «шмолировали», рассуждали о политике, литературе, искусстве.
Но все это мало походило на прежнее. Вдруг посреди танца, на внезапно оборванной ноте смолкал рояль. А маленький толстенький человек вдруг устремлял свои мягкие, чуть растерянные глаза куда-то поверх очков. И, свесив руки, откинувшись на спинку стула, сидел и молчал. Мрачно, словно оцепенев. И никакие силы не могли заставить его снова начать играть.