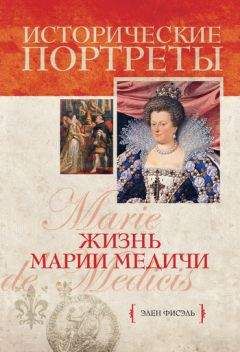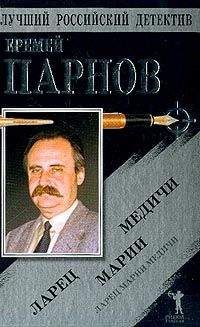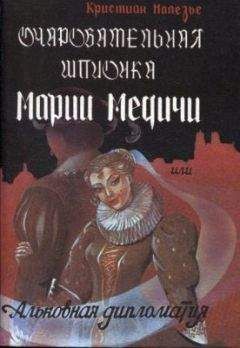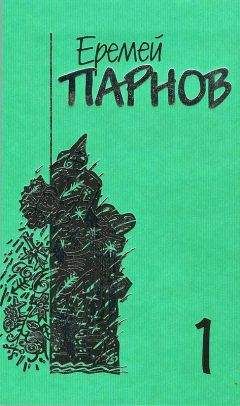Елена Рачева - 58-я. Неизъятое
Что это арест, мне в голову не пришло. Привезли в Большой дом (неофициальное название здания ленинградского КГБ. — Авт.). Громадный кабинет с громадным столом и каким-то очень важным полковником со значком почетного чекиста на груди. Он что-то спрашивал — надо же ему зарплату отрабатывать, потом я опять оказался в компании арестовывателей, их уже бригада была. У меня ощущение, что они все были тщедушные и чахоточные, и все харкали в тазик с водой, он у них у всех специально для этого стоял.
Ночь прошла. Помню, как лежал на диване одетый. Уже под утро мне прочли обвинение, формальное, очень короткое: антисоветская профашистская диверсионно-террористическая группа, — и повели в Шпалерку (следственная тюрьма на Шпалерной улице, соединявшаяся со зданием Ленинградского ОГПУ. — Авт.).
Нет, я не испугался. Я понимал, что это все — какая-то невероятная глупость. Первая мысль была: слава богу, завтра не надо идти в техникум (у меня были долги по домашним заданиям), слава богу, не будет этого больше.
* * *Когда мое следствие кончилось, я спросил судебного исполнителя, тщедушненького молоденького лейтенантика: из вашего опыта — сколько мне могут дать? Он совершенно спокойно ответил: «Знаете, 10 лет точно».
16 лет, год до ареста. 1947
Меня это ошарашило! Как будто по лицу ударили, даже по рылу. Мне 16, срок 10, мама дорогая! Это было страшно. Но когда на суде мне дали 25 лет, это было уже смешно. Мы все — возьму на себя смелость сказать «мы все» — были уверены, что сидение, которое назначено нам этими, простите, органами, — чушь собачья.
Конечно, все надеялись, что что-то случится. Усатого не станет, например. Хотя некоторые шутники говорили, что, когда его не станет, не станет и нас: умрем с голоду, потому что только Усатый и знает, что мы сидим, а больше никто. Тогда, конечно, бытовала легенда, что он-то не знает, а если бы узнал…
Но абсолютное большинство тех, кто со мной сидел, понимали, что это его дело, его идея взрастить племя послушных людей.
«В психбольнице все были такими, как я»
Полсрока я проработал, по Исаичу говоря, на шарашке. В городе Воркута, на шахте № 1. Это было замечательное время. Относительно, конечно, но я вспоминаю его с благодарностью.
У нас были относительно хорошие условия: отдельное, нами спроектированное помещение. Тепло, светло, у каждого свой стол, бумага и куча свободного времени. Кто читал, кто что. Я рисовал.
Каждая тюрьма, каждый лагерь — это своего рода срез общества, поэтому немножко выспренно будет сказать, что там были одни замечательные люди. Были и не замечательные, и стукачи, и много. Все их знали и прекрасно с ними общались.
Несколько лет назад один человек из нашей шарашки рассказал мне такой эпизод. Он сказал человеку, с которым мы работали и дружили, что кум хотел завербовать его в стукачи, но он удержался. И наш друг вдруг сказал: «А я не удержался». И все.
Слава богу, что меня не пытались вербовать, потому что не знаю, как бы это было, чем бы мне угрожали. Например, перевести на общие работы — и все, конец. У меня было 25 лет срока, и за эти 25 лет можно было 25 раз сдохнуть.
Я всегда очень боялся общих работ. Я пробыл на них всего одну зиму, но был такой молоденький, «тонкий, звонкий и прозрачный» (это лагерное выражение), что к весне схватил то ли туберкулез, то ли просто серьезный плеврит, и вполне мог отбросить копыта. И тут прошел слушок, что в шестой шахте настолько проворовалась обслуга, что начальство меняет персонал и нужны несколько нарядчиков. Не помню как, но, не обладая никакой специальностью, я оказался там и встретил одного знакомого, начальника мехцеха Ивана Шпака. Он знал, что в конторе требуется чертежник, и рассказал там про меня.
Из конторы пришел человек: «Рисуете?» Я до этого никогда не чертил. Но в лагере не требуется узкая специализация. Чтобы уйти с лесоповала, человек говорит, что он пилорамщик, надеясь, что, когда подойдет к пилораме, поймет, как она работает.
В общем, он выяснил, что я ни ухом, ни рылом. Но в лагере человеческая выручка играла гораздо большую роль, чем на большой земле. Этот человек решил мне помочь и взял чертежником.
* * *Очень много люди лицемерили, очень. Многие и в лагере говорили: «Я был коммунистом, коммунистом остался». Это было глупое ощущение: может, меня за это освободят.
Такие люди писали бесконечные заявления о пересмотре дела, о своей невиновности. Моя мать тоже за меня хлопотала и, наконец, добилась переследствия. Меня вырвали на этап, привезли в Бутырку, потом в институт Сербского (психиатрическая клиника в Москве. — Авт.), потом тем же манером обратно. В Сербского я попал, потому что родители в ходатайстве о пересмотре дела написали: в связи с переходным возрастом у мальчишки мог быть какой-то бзик. Они, конечно, святые люди, и не понимали, что если бы меня действительно отправили в психушку, окончания срока там не было бы вовсе.
На пересмотр приговора я не надеялся, я уже был лагерник. Зато в Сербского для меня оказался санаторий.
Я попал туда с плевритом, говорить не мог совершенно. Меня держали в изоляторе, где лежали сомнительные и буйные, всего человек 8 — 10. Буйный был один, но безобидный, у меня до сего дня ощущение, что он косил. Другой действительно буйствовал, но припадками. Остальные были такие же, как и я.
Очевидно, я казался самым нормальным из них, поэтому помогал нянечкам: мыл пол, убирал. За это они меня подкармливали. «Психи» были москвичами, родные приносили им передачи: сыры, масла, яблоки… А они то ли косили, то ли нет, но демонстративно намазывали масло на стену. Поэтому вечером, когда все уходили, нянечки несли всю эту еду мне и откормили так, что плеврит ушел.
«Нет человека, который бы смог приготовить эту падлу»
Сталин умирал три дня. Замечательное было время! Как сейчас помню: стояли очень солнечные, яркие дни, сверкал снег. У нас везде было радио (русский человек радио из ничего даже в лагере сделает) — все за его болезнью следили, но, думали, оклемается.
И вот объявляют о смерти. До сих пор помню: минута молчания, надо встать. Один встал, другой… Надо, но с души прет! Достал, помял махорку… Поднялся — вроде бы хочу пойти покурить. Встал. Полвека прошло — а вспоминать неприятно.
* * *После смерти Сталина у нас в лагере началась хорошая кормежка. Что значит хорошая? Кормили акулой. Вы знаете, что такое акула? Все говорят: «Это как приготовить…» Чушь собачья! Нет человека, который бы смог приготовить эту падлу. Представьте себе белейшее, с виду прекрасное, волокнистое мясо. Без всякого вкуса. Откусив, вы можете жевать, жевать, мять, мять… так и проглотите. Полиэтиленовая веревка — вот что это акула. Мерзкая, сволочь.