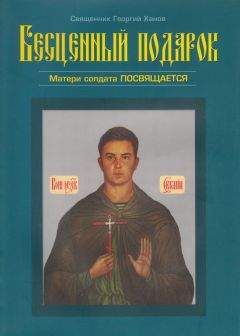Иван Науменко - Сорок третий
Пулеметными очередями подожжены две крайние хаты в Лужинце. Зрелище зловещее: темный лес, темное поле и освещенная пламенем пустая улица...
Эсэсовцы отступили. В полночь подошел с отрядами Вакуленка. Под пологом темноты закипела лихорадочная работа. Подпиленные, подрубленные, ложились на большак высоченные сосны. Мины ставили где только можно. Минеры закапывали толовые свертки даже во ржи.
Новый бой начался во второй половине дня. Собрав в кулак все, что было в окрестных гарнизонах, эсэсовцы набрасываются с большими силами. Снова до ночи гремит бой...
План удался. Эсэсовцы на приманку клюнули.
Ночью, забрав убитых и раненых, партизаны отошли.
За Лужинцом до самой Березины - сплошные леса. Селений мало. Целую неделю продолжаются схватки с врагом. Партизаны наскакивают ночью, обстреливают дозоры, нападают на обозы. Втянувшись в бесцельную погоню за партизанами, эсэсовский полк теряет время. А половина Литвиновщины колыбель местной партизанщины - целая. Совхозный же поселок Литвиново, деревни Пажить, Зеленую Буду и ряд других эсэсовцы успели сжечь...
V
Придорожные сосны будто прячут под задумчивыми шатрами память о кровавых былях.
Изничтоженный край. Земля-страдалица. Кто ее не топтал, кто не разрушал ее городов, деревень, селений, шествуя по зеленой равнине кровавым шагом завоевателя...
Неподвижные дымы в небе перемещаются за Припять. На Литвиновщине спокойно. В Моховском, Разводовском, Лужинецком, Зеленобудском сельсоветах - ни одной уцелевшей хаты.
Там, где были Пилятичи, печально глядят в летнее небо закопченные трубы, колодезные журавли. Листья на деревьях свернулись, черные.
На пепелищах копаются сельчане. Кто найдет топор, кто чугун, покореженный огнем чайник, кто - гвоздь.
Лето стоит хорошее. Дни ясные, полные тепла, ласки. Время от времени льют дожди - после них текут ручьи, в колдобинах собирается вода. Озимые, яровые растут, будто землю рвут. Такой урожай был в тот год, когда началась война.
Ночи - звездные, тихие. В лесу поют петухи, лают собаки. Жизнь теперь - в лесу.
С болотцев наплывают на лес туманы. Густые, плотные - не увидишь огонька возле соседнего шалаша. Звенят комары. В шалашах надрывно кашляют дети. Труднее, чем кому-либо в эти проклятые дни, - женщинам и детям.
Пусть не забудется доброе человеческое слово. Оно одно держит на свете. Не только политруки, комиссары выступают перед погорельцами, но все, кто носит за плечами винтовку.
Вакуленка охрип - собирает митинги в каждом лесном селении.
- Бабы, не горюйте!.. Самое страшное - позади. С голоду не умрем. Собрать урожай поможем мы, партизаны. Фронт стоит надежно. Советская власть вернется, и будут у нас новые хаты. Главное - в живых остались...
Некоторые из женщин вытирают уголками платков предательскую слезу.
VI
Небо высокое, синее, редкие белые облачка на нем - будто стая диких гусей. Трава по пояс. Без конца-края вокруг колышется травяное поле. Тут и там вылетит чибис, блеснет на солнце рдяным черно-белым крылом, тревожно кигикнет. Окутанные маревом дрожащей дымки, виднеются вдали купы лозняков, приземистые стожки прошлогоднего сена.
Тихо, пусто на Литвиновских болотах. Только с правой стороны, где едва заметно сереют на горизонте соломенные крыши Лозовицы, кто-то вроде шевелится. Мелькнут и сразу исчезнут два или три белых женских платка.
Евтушик косит. Винтовку, торбочку с ломтем хлеба, бутылку молока укрыл в траве, снял верхнюю рубашку. Трава густая, сеянка - косу не вобьешь. Но Евтушик начал с росой, успел войти во вкус. Легкий ветер приятно обдувает лицо. Жик-жах, жик-жах! Ноги широко расставлены, если оглянуться назад, видны две ровные вытоптанные полосы.
Еще с вечера отпросился Евтушик у Якубовского. Косу отбил, брусок взял с собой, хоть он и сточился - наждачной приварки всего на мизинец. На всякий случай захватил еще и брусок, которым точит топор.
Второй год пошел, как тоскует Евтушик по работе. Покосить, походить за плугом, подержать цеп выпадает редко. Работа как заячий сон под кустом - один глаз прикрыт, другой смотрит.
В колхозе Евтушик должностей не занимал, делал, что приказывали. Колхоз держался на мужской силе. Косить выходило тридцать мужчин. Он любил косьбу за гомон, многолюдье, острый, пьянящий запах привядшей травы, который всю короткую ночь дурманит голову. Неплохо зажила деревня при колхозе. Может, не так сытно, как весело. Хлеба на трудодни приходилось мало, зато привозили во дворы огромные возы картошки. Пудов по триста. Деньги зарабатывали зимой, трелюя лес. Платил леспромхоз. Выгонишь, бывало, за месяц пятьсот чистых, колхозу только за лошадей отчисляли.
Евтушику была по душе колхозная жизнь, рождавшая в людях чувство единения, сплоченности. Страха за завтрашний день не было. А как село отмечало праздники! Три дня Май, три - Октябрь, пробный выезд в поле, первая борозда, Красный обоз, выставка в районе. Да и старых праздников не забывали. Богатства не копили, жили как люди. Лозовица просто звенела от песен. Да и зачем оно, богатство, если семья обеспечена, дети ходят в школу. Сам, если есть охота, можешь подаваться в город, можешь - на железную дорогу. Ни в город, ни на железную дорогу Евтушик не хотел. Вообще в Лозовице было мало отходников. Какой дурак променяет сельскую жизнь на беготню на службу по часам? Деревня - шестьдесят дворов, как кто работает слепому видно, мужчины - как дубы. Год от года шло к лучшему. Вот это болото, где росла одна осока, а в трясину по грудь проваливались, осушили. Двадцать колхозов вышли на осушку. Дорогу до Литвинова насыпали, радио в хатах заговорило. Еще б и электричество провели, если б не война.
Евтушик останавливается, вытирает рукавом потное лицо. Добрый кусок отмахал. Начал от первого коллектора и скоро дойдет до второго. Можно считать, полклетки выкосил. Если вырвется еще на день, сена корове на зиму хватит. Какого черта теперь сидеть в отряде? Но некоторым нравится цыганская жизнь. Едят несоленое мясо, отираются около чужих баб. Разбалуется за войну народ.
Евтушик оттачивает косу, острит ее бруском, воткнув рукоятку в податливый торфяной грунт, затем, прыгая через прокосы, идет к канаве. Вода в коллекторе - на самом дне, напиться не так просто. Раскорячившись, держась за берег руками, Евтушик носком лаптя выбивает на стенках канавы лунки, затем ставит в них ноги. Упадет на дно комок торфа, и напьешься не воды, а чаю.
Коллектор оползает, зарастает травой. Если еще год-два не чистить каналы, снова подступит болото.
Нагнувшись, Евтушик видит в темном зеркале воды свое заросшее лицо, косматую голову. Надо было бы побриться, постричься, да все некогда. Черпая пригоршнями воду, косец жадно пьет. Крупные капли падают на дно, звенят, как стеклянные. Вода сразу мутнеет.