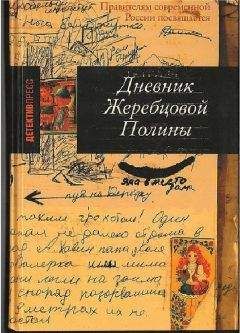Василий Катанян - Современницы о Маяковском
— Если у нас нет денег, значит, нам не нужно знать Маяковского?
— На лекцию Маяковского пускают нэпманов, а пролетарское студенчество нет!
— Маяковский, пропусти!
Владимир Владимирович быстро находит единственный возможный выход: пустить всех.
В зале нестерпимая жара и духота. Маяковский без пиджака уже с самого начала лекции. Аудитория настроена бурно и нельзя сказать, чтоб очень дружелюбно. Кроме обычных выпадов о самовосхвалении, самомнении и т. д., публика очень интересовалась финансовой стороной поездки в Америку. И наконец, раздались голоса, которые прямо вопрошали: — Кто дал вам деньги на поездку в Америку? — На чьи деньги вы ездили в Америку?
Как сейчас помню большую, прямо скульптурную фигуру Владимира Владимировича с протянутой вперед рукой и его замечательный, прекращающий все вопросы ответ:
— На ваши, товарищи, на ваши!
Стихи, как всегда, разом прекратили все разговоры, вопросы и записки. Читать в этот раз Маяковскому пришлось очень долго, так как многие, например:
"Шесть монахинь",
"Блек энд уайт",
"Американские русские",
"Кемп "Нит гедайге", -
приходилось читать по два раза. Вообще же, по-моему, на этой лекции были прочитаны все американские стихи.
Зал гремел, безумствовал. Я же совсем потеряла представление о действительности. Для меня не существовало ни этого шумящего зала, ни дома, ни тетки рядом, ни вообще ничего на свете. Ничего, кроме Маяковского, который читает такие замечательные стихи и смотрит при этом на меня.
Вечером опять было очень холодно. Отец сам решил посадить меня на извозчика. Подруга, к которой я якобы отправлялась на день рождения, жила очень далеко. Извозчик был старик, видимо, строгих правил, потому что, когда мы отъехали и я сдавленным голосом сказала ему:
— На Подол ехать не надо, поезжайте в "Континенталь", — обернулся ко мне и с возмущением стал меня отчитывать:
— Так-то, барышня, папашу обманывать! Это за каким же делом вам в гостиницу надо?
Мы ехали очень медленно, чуть не шагом, и, поэтому несмотря на непродолжительность дороги, старик, который не переставал меня отчитывать, сидя к лошади боком, довел меня буквально до слез.
В комнату к Владимиру Владимировичу я ввалилась с такой физиономией, что Маяковский сразу рассвирепел:
— Кто? Папа? Мальчишки? Что случилось?!
Рассказ об извозчике подействовал на него странно.
— Я думал, вы смелая, большая девушка, а вы крохотка совсем, — говорил он явно разочарованно. Увидев, что я совсем растерялась и расстроилась, заслужив еще и его неодобрение, Владимир Владимирович стал говорить мне приятные вещи, стараясь утешить. По его словам, я была и красавицей, и умницей, и платье у меня было замечательное, и "копытца" (туфли) хорошие, и вообще я была лучшей из всех девушек. "И девушку Дороти, лучшую в городе, он провожает домой". Я спросила, чьи это стихи. Сказав, что начинает разочаровываться в моей "образованности", Маяковский очень хвалил Веру Инбер. Помню его слова: — У нее крепкий мужской стих.
Рассказал мне содержание "Веснушчатого Боба", из которого помнил только вышеприведенные строки, "Сороконожки" тоже помнил плохо, но зато "Сеттер Джек" знал и прочел все. Особенно нравились ему строчки "Уши были, как замшевые, и каждое весило фунт". Несколько раз в течение всего вечера говорил эти слова и при этом делал такие движения руками, что еще больше становилось ясным, какие это милые, приятные уши и как приятно их подержать в руках. Помню, что в этот вечер упоминал имена Сельвинского и Пастернака. Помню, что Пастернака называл "лучшим русским поэтом".
В субботу, 30 января, была еще одна лекция Маяковского. Лекция эта была тоже в зале Домкомпроса и мало чем отличалась от первой — та же толпа, рев, крики, аплодисменты. Те же споры во время лекции, как всегда плачевно кончающиеся для оппонента Маяковского. Много записок, почему-то в большинстве грубых, глупых и старающихся больно задеть Владимира Владимировича. Почему же на этих наших лекциях в Киеве редко бывали лояльные, поддерживающие, так сказать, записки или выступления? Очевидно, аудитория, в громадном большинстве всегда восторженно принимавшая Маяковского, была уверена в его силе, в его замечательной способности молниеносно и смертельно отвечать на враждебные выпады и выражала свое восхищение и одобрение только овациями, которых, конечно, до сих пор не имел ни один поэт или писатель. На этой лекции мне запомнилось два ответа Маяковского по вопросам, не имеющим к ее теме никакого отношения. Откуда-то сверху, в тишине, наступившей перед стихами, раздался тоненький женский голос:
— Маяковский, как вы смотрите на Эренбурга?
— Косо! — ответил Владимир Владимирович моментально и не отрываясь от своих мыслей.
И второе. Кое-кто из публики, стремясь одеться раньше других, стал уходить, не дожидаясь конца чтения.
— Садитесь, не мешайте слушать! — шикали на них остававшиеся.
— Нечего тут слушать, — сгрубил кто-то из уходивших.
— Товарищи, не задерживайте его, он спешит сменять свои старые галоши на новые, пока никого нет в раздевалке! — убил под громкие аплодисменты Маяковский. Зал никогда не оставался глух ни к одному его слову.
Наступил понедельник 1 февраля. Я пришла к Владимиру Владимировичу перед лекцией часа в четыре. Пришла тихой, грустной и молчаливой еще больше, чем всегда. Завтра он уезжал, и я даже не смела спросить куда. Я сидела в кресле, смотрела на синие сумерки за окном, едва сдерживала слезы и молчала. По коридору кто-то прошел мимо дверей. Затем вернулся и постучал в дверь. Владимир Владимирович, сделав мне успокаивающий знак, продолжал сидеть не двигаясь. Стук повторился. Мы совсем замерли. Человеку, стоящему в коридоре, видимо, очень нужен был Владимир Владимирович. Он стучал, стучал настойчиво, громко, замолкая на секунду, может быть, прислушиваясь. И опять начинал колотить в двери. Владимир Владимирович уже давно перешел к дверям, пытаясь услышать голос, понять, кто это. Я же, оставаясь в своем кресле, вся дрожала от страха. Наконец стук прекратился, шаги стали удаляться. Владимир Владимирович вернулся ко мне. Заметив, что меня колотит страшный озноб, Владимир Владимирович бросился меня укутывать своим пиджаком и пальто. Не выдержав больше напряжения, я страшно и безудержно расплакалась. Владимир Владимирович совсем растерялся. Так как я не отвечала ни на какие вопросы, усадил меня к себе на колени и стал целовать, уговаривая, утешая и говоря, что сам расплачется. Когда я наконец успокоилась, наступил второй ужас: я ведь была в объятиях Маяковского! Физиономия моя на этот раз выражала, наверное, такую полную растерянность, что Владимир Владимирович не выдержал и стал хохотать.