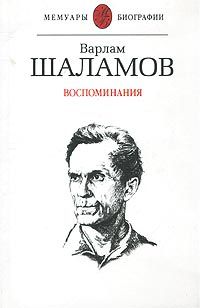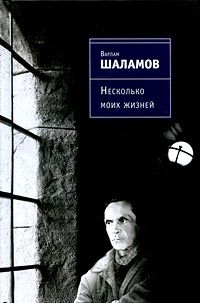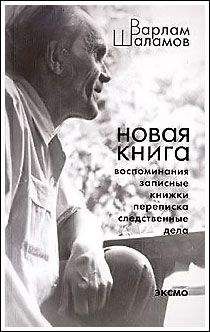Варлам Шаламов - Воспоминания
Маяковский еще раньше сочинил стихотворение на ту же тему:
Я хочу, чтоб к штыку
приравняли перо,
С чугуном чтоб и с выделкой
стали,
О работе стихов на Политбюро
Чтобы делал доклады Сталин.
Пастернак решил обезопасить себя от мстительной враждебности Сталина, выражаемой против всех, кого хвалят враги, и написал сам стишок о Сталине в 1934 году назвав цикл «Художник»:
Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.
Это стихотворение не только спасло Пастернака, но удостоило личной беседы по телефону со Сталиным, хотя не по поводу своей оды.
До сих пор никто не может понять, как поэт, к которому резко отрицательно относился Ленин, вписан в историю и позднее даже в школьный учебник.
Маяковского вписали Сталин и Луначарский.
Когда Горький жил на Капри и начинались переговоры о столь деликатном деле, как возвращение Горького в Советский Союз, Маяковский опубликовал в «Новом Лефе» свое письмо Горькому.
Воронский получил от Горького письмо, что он, Горький, пересмотрит свое решение о возвращении, если ему не гарантируют исключения подобных демаршей со стороны кого бы то ни было.
Воронский ответил, что он поставил об этом в известность членов правительства и Алексей Максимович может не беспокоиться. Маяковский будет поставлен на место.
Оба письма есть в архиве Горького.
К кому из членов правительства обращался Воронский? Не к Сталину же… И вряд ли к Луначарскому.
Во всяком случае переговоры велись через Воронского, а Воронский отнюдь не был поклонником Горького — ни как художника, ни как общественного деятеля.
На многолюдном диспуте с Авербахом и рапповцами Воронский оспорил принадлежность Горького к пролетарской литературе (Гладков, Ляшко, Бахметьев и т. п.). Воронский потрясал перстом, и наброшенная для тепла бекеша спадала с плеч. В конце концов Воронский сбросил бекешу, положил ее на кафедру и договорил речь без бекеши — и потом только одел в рукава и сел за деревянный, некрашеный стол президиума.
В 1933 году я был на чистке Воронского в Гослите. Последняя работа Александра Константиновича в Москве — старший редактор Гослита. Сам Гослит помешался тогда в Ветошном переулке.
Чистку вел Магидов, старый большевик.
И Магидов, как и Теодорович — да все, все без исключения люди, чьи фамилии были в первых рядах строителей новой жизни, — все были уничтожены Сталиным, физически уничтожены.
Воронский рассказал о своей жизни, о том, что, дескать, ошибался, работал там-то и там-то.
Вопросов никаких не задавалось, народу было немного, человек шестьдесят в зале, а то и меньше. Магидов уже приготовился продиктовать секретарю: «Считать проверенным», как вдруг из задних рядов поднялась рука, просяшая слова для вопроса.
Встал какой-то молодой парень. На лице его написано было искреннее желание постичь ситуацию, не уколоть, не намекнуть, а просто понять — для себя.
— Скажите, товарищ Воронский, вот вы были выдающимся критиком. Уже давно в советской печати не видно ваших критических статей. Вот вы написали книгу о Желябове — это хорошо. Воспоминания написали еще лучше. Повести, наконец главу «Урагана». Все это очень хорошо доказывает большой запас творческой энергии. Но критика, критика-то ваша где?
Воронский помолчал и ответил спокойно неторопливо и холодно:
— По возвращении из липецкой ссылки я сломал свое перо журналиста.
Парень в задних рядах восторженно закивал головой, сел, пропал из глаз, и Магидов вызвал очередного на проверку.
Александр Константинович Воронский как редактор двух журналов — «Красной нови» и «Прожектора», как руководитель крупного издательства («Круг») и вождь литературной группировки «Перевал» отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. Стихов всегда писалось много, и самотек двадцатых годов представлял такое же бурное море, как и сейчас.
Я сам был консультантом по художественной литературе при Центральной рабочей читальне им. Горького в Доме союзов в тридцать втором и тридцать третьем году. Поток рукописей, беседы с авторами и прочее. А ведь библиотека не журнал.
Александр Константинович читал день и ночь и ничего, понятно, путного не нашел, ни одного имени из самотека не поднял и не мог поднять — ибо в мешанине такой количество и качество особые. Вот эту особенность искусства и не хотели принимать догматики и теоретики, реалисты и романтики, отшельники и дельцы.
Ни одного нового имени в литературе, которое бы вышло рукоположенное Воронским.
Чтение чужих рукописей — худшая из худших работ. Неблагодарное занятие. Но теоретические убеждения заставили Воронского обращаться в новых поисках и с новым вниманием. Впрочем, это внимание стал разъедать скепсис со временем. Дочь Воронского рассказывает, как принимал иногда отец чью-нибудь объемистую рукопись.
— Как фамилия автора?
— Пупырушкин.
Александр Константинович взвесил на руке бумажную тяжесть.
— Вышлите назад. Не пойдет.
— Почему? — недоумевала дочь.
— Потому, — назидательно говорил Воронский, — что если это талантливый автор, обладающий литературным вкусом, он писал бы под псевдонимом.
Резон тут, конечно, есть.
Тогда все ждали Пушкина: вот-вот пять лет пройдет — и появится новый Пушкин, ибо капитализм — это такой строй, который «мял и душил», а теперь…
Время шло, а Пушкина все не было. Постепенно стали понимать, что искусство живет до особым законам, вне общественных коллизий и не ими определяется.
То же самое внимание обращал в своей переписке, в своей писательской деятельности и Горький. Та же была политика и те же неудачи.
Кого в литературу ввел Горький? Ни чести, ни славы горьковские восприемники не принесли.
Мы не однажды заводили разговор с Воронским о будущем. Воронский не на новые фигуры надеялся, а на то, что все талантливые писатели перейдут на сторону советскую. А не перейдут — им не дадут писать — «Кто не с нами!».
Поэтому Мандельштам и Ахматова были и для Воронского чуждым советской власти элементом.
Будущее Александр Константинович рисовал перед нами в классическом стиле всеобщего расцвета, роста всех потребностей, удовлетворения всех вкусов.
Как-то случилось на ту же тему побеседовать с Раковским.[57] Раковский вежливо выслушал мальчишеские наши мечты и улыбнулся.
«Я должен сказать, ребята, — он так и сказал „ребята“, — хотя у него были студенты университета, — что картина, нарисованная вами, привлекательна. Но не забывайте, — и Раковский улыбнулся, — что это представления людей буржуазного общества. И мои и, главное, ваши, ваши, хотя вы меня и моложе на сорок лет — такие представления, идеалы буржуазного общества. Никто не знает, каким будет человек коммунистического общества. Какими будут его привычки, вкусы, желания. Может быть, он будет любить казармы.